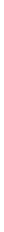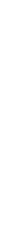АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН: Я СЕБЯ ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ НЕ СЧИТАЮ
Ноябрь 1995, Тель-Авив.
— Как же вы решились на отъезд?
— После того как в 1937 году арестовали моего отца, я ничего не боялся. Пожалуй, кроме двух вещей: слепоты и инсульта. Вот глаза меня и настигли. У меня страшная форма глаукомы. В сегодняшних условиях в России зрение мое спасти будет невозможно. Даже притом, что есть Святослав Федоров[1], который ко мне хорошо относится. Дело ведь не в операции. Нужны лекарства, и не просто лекарства. Глаукома — необратимая болезнь, ее можно только приостановить. Для меня встал вопрос: либо в Израиле зрячим, либо в России слепым. Второе. Я выступил на встрече Ельцина 16 апреля 1993 г. на встрече с интеллигенцией в Большом театре, я выступил первым, говорил фашизме и антисемитизме. Поддержал меня и Ельцин, и весь Бетховенский зал. Но жить стало трудно. Стали звонить ночам, почему-то всегда около 4 утра. Угрозы, оскорбления. Продолжалось это долго. Мы с женой приняли тяжелое решение об отъезде.
— Как вас приняли на новом месте?
— Когда я приехал, у меня брали интервью буквально все газеты. Всех удивляло, что я приехал, получив все советские премии.Кто где живет — проблема чисто советская. Если Россия вписывается в цивилизованное общество, то проблема эта просто не может существовать, ибо она не стыкуется с Декларацией прав человека. Каждый человек имеет право жить, где он хочет. Человек ни перед кем не должен отчитываться — где он хочет жить, почему и т.п.
— Но вы уехали именно сейчас, когда для многих писателей открылись новые возможности.
— Я принадлежу к тем писателям, которые категорически не признают перечеркивания нашего прошлого. Я считаю, что это предательство. Читая многих современных деятелей культуры, я думаю: как вам не стыдно! Как же вам не стыдно, например, поносить встречи Хрущева с интеллигенцией. Он был достаточно темным и необразованным, но вопреки всему ЦК партии именно он освободил страну от сталинского наследия. Он поднял железный занавес, до него и в Болгарию никто не ездил. Он разрушил сталинские лагеря смерти. Он отменил крепостное право во второй раз после 1861 года. При нем полетел в космос Гагарин. И пенсии он увеличил во много раз. И при нем десять хозяек перестали выходить на одну кухню. Ему можно предъявить множество претензий, но, как писал Твардовский, «И все же, все же, все же...» У него есть смертные грехи — хотя бы Новочеркасск. Но он уверял в разговоре со мной, да и Аджубей мне говорил, что Кириченко был за это отстранен от всех должностей и сурово наказан. Конечно, расправа с Пастернаком — на его совести, и Манеж. Манеж, правда, сильно преувеличен. Но когда умер Ильичев, который его натравил, появился некролог за подписью Горбачева, где подчеркивался его огромный вклад в советскую культуру. Я тогда в «Литературной газете» выступил с протестом. Я тогда написал, что самые темные страницы нашей истории связаны с ним. Но когда ругают поведение Хрущева на этих встречах с интеллигенцией, то почему же они не рвали свои пригласительные билеты, а раболепствуя, ходили? Что же вы выскакивали из кустов и хватали его под руку, чтобы вас запечатлели фотографы и кинокамеры? И говорить, что у нас ничего не было — ни театра, ни великой литературы, ни полетов в космос, а вот пришел Михаил Сергеевич со своей перестройкой и все сразу началось — несправедливо. Ничего подобного! Была великая страна, великая. В духовном плане, в смысле социальной защищенности людей было много такого, на что можно было бы обернуться и над чем можно было бы задуматься. Журнал «Юность», где я был десятки лет членом редколлегии, выходил тиражом 3 600 000, и на него нельзя было подписаться и люди стояли ночами. Театры были на дотации государства, и всегда стояли очереди за билетами, ведь это же все было, господа! Был великолепный детский театр, которого сейчас нет, он стал Молодежным, стало быть, взрослым театром. Другие детские театры ставят спектакли, на которые зрители до 16 лет не допускаются. А Наталья Сац — благородный фанатик детского музыкального театра — в свое время выбила для театра здание у Хрущева. Как же можно было лишать детей своего театра? А детский кинематограф — он что, есть, что ли? У нас был достойный кинематограф, вполне способный соперничать с кинематографом других стран. Поэтому, при всех безобразиях, при всем том, что очень многое в прошлом меня категорически не устраивает, а что разве не шли смелейшие спектакли в «Современнике», на Таганке? Дело культуры было организовано блестяще. Поэтому такое перечеркивание жизни поколений — позорное занятие. При этом нельзя замалчивать то, что было плохо. Например, одну из моих повестей, которая мне казалась очень удачной, неожиданно раздолбали с чисто сталинистских позиций. Она для того времени оказалась слишком смелой, хотя я никогда специально, в ущерб художественности, к этой смелости не стремился. И тут Сталин вдруг сказал, что нужен конфликт. И тогда на ура прошел рассказ, который назывался «Неправда». Написан он от имени мальчика, чьим кумиром был отец. Он называл маму мальчика малышом, хотя она не была маленького роста, и мальчик умилялся тому, как же отец любит маму, если так нежно ее называет. И вдруг он видит отца в кино с женщиной маленького роста, и вдруг он понимает, что малыш — это ее, ее имя малыш. А маму называет так, потому что называет так эту женщину... Сегодня это кажется обыкновенным делом, а для той поры — просто невозможным. Даже Аджубей отказывался печатать: «Мальчик разочаровывается в отце ».
— Но ведь ваше положение в Союзе писателей давало вам свободу. Я не читал все двести ваших произведений, но чтобы в них зазвучала еврейская тема, вам пришлось уехать в Израиль...
Я — русский писатель, и считаю себя навсегда русским писателем. Писатель — это язык.
— А Бабель — тоже русский писатель?
— Тоже. Дело не в темах, не в характерах, а в том, для кого это было написано. Ведь писатель творит не для себя — достаточно было бы одного экземпляра. Он творил прежде всего для русского читателя, для России.
— Но и «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова...
— Достойное произведение.
—... при всей талантливости — написан с оглядкой, во многом ограниченное произведение. Но написано оно было в условиях цензуры. А здесь, без цензуры, вам удается печататься?
— У меня был опубликован цикл тель-авивских рассказов, один из этих рассказов был опубликован в Москве в журнале «Обозреватель», очень красивый, кстати, журнал[2]. Я написал роман «Сага о Певзнерах». Мне трудно определить место этого романа в своем творчестве. Меня и называли мастером короткой повести. Это, кстати, очень трудный жанр. В романе, большом произведении всегда найдешь, где спрятаться. Здесь не спрячешься, всегда просчеты автора будут замечены. Все видно как на ладони. Но все характеры должны быть вылеплены, как в романе, но коротко! Это очень трудно. Моя самая большая повесть была в два с половиной листа — около полусотни машинописных страниц. И тут я маханул роман. По духовной направленности это очень важная для меня книга. «Сага о Певзнерах» печаталась в «Калейдоскопе». Кроме того, я публикуюсь в журнале «Алеф», в журнале «Обозреватель».
— Объединяло ли что-то писателей, которые уехали?
— «Третью волну» я знал хорошо, потому что многие из них были авторами «Юности», а я был членом редколлегии этого журнала. В редколлегии я курировал прозу. Я и принес в журнал повесть Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского». Гладилин был зятем известного писателя Якова Тайца, слушателем авиационного училища. Толя Гладилин тогда ухаживал, а потом женился на Маше Тайц. Яков позвонил, что «он пишет авангардистское, я в этом ничего не понимаю». Мне такая литература тоже не близка, это антипод того, что я делаю, я воинствующий реалист. Не вижу в этой литературе ничего особенного. Великое в литературе — простое. Все великое — просто. Для меня самая гениальная строчка в мировой поэзии — «Выхожу один я на дорогу». Здесь — вся судьба поэта, и его одиночество, и гениальность. А все эти закидоны, которые сейчас культивируют... Ведь литература — это прежде всего повествование о жизни. Я принес эту повесть, Катаев прочитал. Он все умел, мастер был величайший, но не любил авангардистских штучек. Зачем это все? И вот Катаев прочитал и вынес вердикт: «Автор — человек одаренный, но трудно из этого вывести многое. Если займешься...» Мы сели с Гладилиным, как следует поработали, и мне кажется, что эта повесть — лучшее из всего, что Гладилин написал. Я был свидетелем того, как входил в литературу Аксенов — краса и гордость «Юности», Анатолий Кузнецов, Горенштейн. Первые двое были в составе редколлегии. Я встречался с этими авторами. Они очень разные писатели. У них есть стиль, есть своя интонация, своя походка в литературе. А сейчас идет поток бесстилевой литературы. Если перемешать — непонятно, кто пишет.
— Но ведь молодежь потому и не воспринимает прошлое, что о нем слишком много лжи. Слишком разными выглядели известные исторические и культурные деятели: в произведениях — гуманисты, а в жизни — увы...
— Лидия Корнеевна Чуковская, человек очень честный, порядочный, издала книгу «Процесс исключения», где описывает все очень подробно и не щадит и очень больших писателей. Взять, к примеру, Валентина Петровича Катаева. Писатель весьма крупный, другое дело — его человеческие качества. Может быть, они и не дали ему возможности стать великим писателем, по тому, что дал ему Бог, — он вполне этому соответствовал. Михалков, например. Я с Михалковым дружил много лет. Сейчас о нем частенько судят несправедливо, а ведь Михалков очень многим делал добро. Очень многим. Он был человеком могущественным и при Хрущеве и позже, при Брежневе, и свои возможности он направлял на пользу людям. Был истинным интернационалистом. Сейчас ему, конечно, трудно. Он тоже не «активничал» никогда. Маршак считал его «самым великим детским поэтом». Самая чистая детская интонация в русских стихах — у Михалкова. Два тома грандиозных детских стихов. Может выйти на сцену и говорить: «У меня в кармане гвоздь, а у вас?» Или: «В этой речке утром рано утонули два барана». Такое ощущение, что этистихи были всегда. И он считал его великим баснописцем, вторым после Крылова. Ведь его басни это не только «Лиса и бобер» или «Заяц во хмелю». Он, например, 20 басен написал первоклассных.
— Но есть у него и басня о людях, которые все ругают, а сало русское едят.
— Да, было и это. Но при всем при этом надо помнить, что Белинский утверждал, что писателя надо оценивать только повзлетам. 74 страницы у Грибоедова гениальных. А гениально написать нельзя ни одной страницы случайно. Михалкову сейчас инкриминируют активность в наказании писателей. Но многих он здорово выручил, и об этом сейчас молчат. Словом, много было людей, о которых есть что вспомнить. Если господа, вы так против Сталина, то помните: нельзя бороться против советской системы советскими методами. Вы мне лучше назовите хоть одного человека, который протестовал против Сталина, кроме Мандельштама. Такого человека не было в природе.
— Вы долгие годы были секретарем Союза писателей. Жалеете ли вы о каких-то совершенных в ту пору поступках:'
— Нет, потому что я во всем этом не участвовал, не подписывал, и все. Как-то мне это удавалось, хоть и с трудом.
— Составляются новые программы по литературе, и вновь встает вопрос, кого оставлять, а кого включать новых...
— О Горьком — позорная история. Сталин его обманул. Горький поверил в то, что Беломор-Балтийский канал нужен. Но весь мир преклоняется перед этим человеком, пришедшим в культуру из босяков и объевшимся культурой, эти красивости, всякие «море — смеялось» — все от пресыщения культурой. «Варвары», «Дачники» — все это великая драматургия. «Жизнь Клима Самгина» — это великий роман. Так что осуждать... А вы кто есть, чтобы осуждать великого писателя? Нужно иметь право поднимать руку на Горького. Горького можно любить или не любить, и Достоевского можно любить или не любить. Хотя Достоевский величайший писатель всех времен и народов. Если вспомнить выражение Толстого, что главное в литературе — это воссоздание человеческого характера, то так высветить человеческий характер, как Достоевский... Он показал: вот то, кто вы есть! И все. Здесь — полная правда о людях. Он предвидел все. Мы смотрели «Бесов» в театре недавно — ужас, он словно вчера написал. Толстой — мой любимый писатель. Он все же давал надежду. А Достоевский, как мне кажется, надежды не оставлял. Поэтому как можно относиться к этим людишкам, выступающим от лица «нового времени», к этим моськам? Могли ли принимать такие явления, как запугивание Евтушенко? Можно по-разному к нему относиться, но это большой поэт и вообще явление в литературе. Поэт огромный. Одновременно доведение до края отчаяния Солженицына и Войновича... Это меня приводило просто в ужас. Я хоть и был секретарем, но я никогда не присутствовал ни при исключениях, пропесочиваниях и проч. Печально, что некоторые большие писатели позволяли себе активничать в то время. Вот активничать в то время было стыдно. Например, при исключении Лидии Корнеевны. Я очень дружил с Фридой Вигдоровой — кстати, великолепной учительницей, и мы с ней подробно обсуждали все, что творилось в то время.
— Той самой Вигдоровой, которая вела стенограмму суда над Бродским...
— Да-да, кстати, сам процесс доказывает, что культура того времени вовсе не была здоровой, нет. В тоталитарном обществе абсолютно здорового быть не может. Но зачем выплескивать всю воду? Был прекрасный балет, был Арам Хачатурян, и был лучший в мире театр, а детский — вообще лучший в мире. Но и страх был большой. В кого этот карающий перст ткнет — было совершенно неизвестно. Достаточно, что были арестованы Рокоссовский, Королев, Мерецков... Сколько же их было? Ведь мы узнаем только о тех, кто узнан нами случайно. Сталинская эпоха — самая страшная эпоха, совершенно особая, не вписывается ни во что. А потом — приметы этой эпохи, признаки этой эпохи, и все, что нес с собой тоталитарный режим. При болезни организм быть здоровым не может. Это был больной режим.
— Так режим не терпел писателей или писатели уезжали от больного режима?
— Я думаю, что писатель, живущий за рубежом, уже уехал, и где он — кому какое дело? Это личное дело самого писателя... Но коль это существует, прогрессивно то, что вернулся Солженицын. Это обнадеживает. Он — великий человек: такого борца, несгибаемого человека, художника трудно найти. Ведь художник обычно изнеженное существо, а не воин. Фигура удивительная. Он приехал, он вернулся в Россию. То, что он проехал по всей России, — это красиво. Не в Шереметьево пионеры с цветами встречали — а проехал по всей России, вгляделся в жизненные изменения, в жизнь народа. А вот потом — мелькание, а гений не должен мелькать, он должен быть загадкой. Вообще, ждет своих Шекспиров и Достоевских эта эпоха.
— Русская литература — по-прежнему цельная или получилась литература метрополии и литература диаспоры'?
— Литература не определяется местом ее создания.
— Но вместе с тем у вас появляется в эмиграции новый жанр, появляются новые темы...
— Большой писатель имеет такие приметы определенные, которые отличают его от писателя, например, только талантливого. Например, Солженицын — самая крупная, масштабная фигура. Все в его жизни сплелось. Пушкин тоже был историком — «История пугачевского бунта». Наиболее сильная проза, реалистическая проза — у Виктора Астафьева. Его дискуссия с Эйдельманом — зло с двух сторон. Они оба были не вполне этичны. «Царь-рыба», «Последний поклон», «Пастух и пастушка» — близко к классике. Так вот, если по взлетам, то «Белый пароход», «Прощай, Гульсары» и, пожалуй, «Плаха» Айтматова — просто классика, чистопородная классика. Айтматов — это огромный писатель. Я бы еще вспомнил Булата Окуджаву и Фазиля Искандера. Это - великая кучка. И все они — представители все-таки единой русской литературы, ибо литературу объединяет язык.
— Какие свои произведения вы рекомендовали бы для включения в программу?
— «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «Безумная Евдокия», конечно. Я очень люблю «Раздел имущества», «Безумная Евдокия» и есть повесть, которая стоит особняком: люблю «Домашний совет».
— Простите за банальный, очевидно, вопрос: детским писателем быть труднее, чем писать для взрослых?
— Я себя детским писателем не считаю вообще. Я когда-то писал для детей, и некоторые вещи были популярны: «Саша и Шура», «В стране вечных каникул» и др. Магия известности — есть писатели, которые, что ни напишут — все становится классикой. Я не детский писатель, я писатель, который пишет о нерасторжимости детского и юношеского миров — это главное в моем творчестве (хотя слово «творчество» я терпеть не могу). Дети живут в мире взрослых людей. Реально со всеми своими играми они сталкиваются с жизнью взрослых ежечасно, они зависят от этой жизни. Они прекрасно видят и разбираются во всех конфликтах, которые происходят в этом мире. Я не признаю бездетных произведений. Ну, рассказ еще может быть таким. Большой литературы без детей невозможно представить, невозможно представить себе произведений Толстого и Достоевского без детских образов. Мир — это сложенные семьи. Что ни возьми — семья. Такой выдающийся человек, как Эфрос, понимал, что в детском возрасте каждый год — это эпоха. Он понимал это, и потому при нем был великий детский театр. 9 и 12 — это два разных человека. Детский театр — сказки Пушкина, сказки Маршака. Подростковый театр — великолепной в свое время была драматургия Виктора Розова, прекрасные пьесы Лунгина и Нусинова. У меня шло девять спектаклей в Москве. Писатель, который этого не понимает, — он безадресен. Не вовремя прочитанная книга чаще всего угроблена. Детские писатели у нас были когда-то прекрасные. Была великая детская литература. Есть и сейчас прекрасные детские писатели, я их всех очень люблю, но раньше были — Маршак, Чуковский, Кассиль, Михалков, Бианки, Барто, Носов — великолепный, кстати, детский писатель, Драгунский — это были адресные писатели. Дети всего мира им радуются.
— Какое изменение в жизни современной России привлекает вас больше всего?
— То, что писатели могут приехать, — огромный плюс. Значит, они не отторгнуты от страны. И я верю всем сердцем, что и я не буду отторгнут никогда. Мы были и, надеюсь, остались страной высочайшей степени духовности.
[1] Некоторое время спустя Святослав Федоров погиб в авиакатастрофе — Л. Б.
[2] Журнал «Обозреватель» просуществовал лишь короткое время.
Каждая женщина хотела бы иметь такие эксклюзивные ювелирные украшения, которых нет ни у одной из ее подруг, По нашему каталогу Вы можете выбрать элитные изделия с бриллиантами, имеющими натуральную природную окраску различных цветов. Это редчайшие драгоценные камни - фенси.