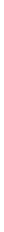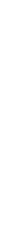АЛЬФРЕД ЛЮДВИГОВИЧ БЁМ
Мысли о Тургеневе
(1833-1933 гг.)
В этом году я перечитал Тургенева. В связи с его юбилеем захотелось вновь оживить прежние впечатления, еще раз проверить сложившиеся о нем мысли. Должен сознаться, Тургенев никогда не принадлежал к моим "любимым" писателям, даже больше, было в нем что-то мне чуждое. Я, конечно, не говорю о его оценке как историк литературы. Его место в литературе, его значение я знал и отдавал ему должное. Но дело шло о внутреннем сродстве, о том, что заставляет к писателю вновь и вновь возвращаться, что делает его звеном в собственном духовном развитии. Иногда очень трудно объяснить, что определяет такое значение в личной жизни писателя, но впечатление остается на всю жизнь, мощное и неизгладимое. Случайно, у букиниста — среди разного хлама — юношей купил я книжку в синей обложке, по краям обгрызанную мышами. Я не знаю, что меня заставило ее купить. Это были «Исторические письма» Лаврова[1]. Сейчас я не могу объяснить, почему эта книжка произвела на меня такое огромное впечатление, могу сказать — определила всю мою жизнь, но книжечку эту я хранил у себя до изгнания (то есть до перерыва всех традиций), как величайшую драгоценность. О, теперь я знаю относительную ценность «Исторических писем», но свое дело они сделали. Да и думаю, не только в моей лично жизни сыграла книжечка Лаврова эту роль.
И недавно мне так странно было слышать публичное признание человека, выросшего на иной культурной почве, иностранца, хотя и славянина, проф. Яна Славика, сказавшего в своей лекции в «День русской культуры», что «Записки охотника» Тургенева сыграли в его жизни почти такую же определяющую роль. «Записки охотника», да и весь Тургенев в моем духовном развитии этой роли не играли. И поэтому у меня никогда не хватало духу осудить нынешнее молодое поколение, которое открыто признает, что Тургенев ему ничего не говорит. Я думаю, это не свидетельствует ни о культурном падении нашей молодежи, ни об устарении Тургенева. Дело в чем-то совершенно ином. И вот это иное открылось мне только теперь, когда я перечитывал вновь Тургенева.
Многое я читал точно впервые, многое — слишком уж знакомое — точно не я, а кто-то другой во мне, чужими глазами когда-то читал. Я же читал по смыслу то же, но совсем, совсем иное. На Тургеневе я только понял, что я вступил в иную полосу жизни.
Каждый писатель всю свою жизнь готовится к одной, самой заветной своей книге. Все им написанное — только подготовка к этой последней книге. Но обычно этой-то книги, одной, единственно для него ценной, ему и не суждено написать. Бывают редкие исключения, когда писатель скажется весь в одной книге, и все, кроме этой единственной его книги, могло быть им никогда и не написано. Но таких писателей "одной книги" очень мало. У нас таким был, например, Грибоедов, да, пожалуй, с известными оговорками — еще и Гончаров, со своим гениальным «Обломовым». Обычно же писатель прокладывает себе напряженным творчеством путь к этой единственной и никогда им ненаписанной книге. И вот, если бы Тургеневу было дано написать эту последнюю книгу его жизни, то это была бы, наверно, самая грустная книга в мире. Я никогда прежде этой грусти тургеневской не чувствовал так отчетливо, как теперь, при последнем его чтении. Да, положительно, Тургенев самый грустный из наших писателей.
И когда я вдумываюсь в причину этой грусти, то я ее склонен объяснять своеобразной боязнью счастья, которая была органически присуща Тургеневу. Счастья нельзя не хотеть, к нему, как к жизни, нельзя не тянуться, нельзя не стремиться, но в то же время можно его бояться. Даже для этого не надо быть временным избранником счастья, не надо иметь поликратовой удачи, но надо только поверить, что приход его неизбежно влечет за собой крушение. Вот такую инстинктивную боязнь счастья, очевидно, нес в себе Тургенев. Гоголь гениально подметил эту особенность в Подколесине.
На заре своей литературной деятельности Тургенев пробовал иронизировать над счастьем, облекши его в мещанские наряды. Он по-печорински пытался высмеять удавшееся счастье Параши. Но сарказм и издевка были явно не его стихия. Бальмонт очень кстати недавно напомнил нам стихотворные произведения Тургенева, в том числе и «Парашу»[2]. В ней имеются строки для начинающего поэта разительные, а для понимания Тургенева — чрезвычайно существенные. Тургенев — европеец, вплоть до его "потугинских" черт, даже обнаруживается в этой ранней, во многом еще беспомощной поэме. Но и на ней уже лежит налет не столько разочарования, сколько безотчетной грусти. Дальше, в своей прозе, Тургенев уже прямо подходит к этой проблеме обманчивого счастья.
В «Дворянском гнезде», в этом наиболее совершенном романе Тургенева, крушение счастья Лизы и Лаврецкого скрашено оптимистическим эпилогом. Но тезис поставлен с полной отчетливостью. Ведь трагедия Лизы вовсе не повторение жребия Татьяны. На пути ее не стояло тех нравственных преград, которые пришлось бы преодолеть Татьяне, если бы она пошла вслепую навстречу своей любви к Онегину. Надо было только больше веры в счастье, убеждения в своем праве на личную жизнь, чтобы монастырь заменился семьей. Лаврецкого тоже никто не обязывал нести беспрерывно крест своего неудачного брака. На пути счастья стояли не объективные моральные причины, а объективное чувство боязни счастья. Первая трудность, встретившаяся к его осуществлению, вызвала "прыжок в окно". Бессмысленная смерть Базарова в сущности тот же прыжок, только в его трагическом аспекте. Рудин прямо повторяет — в другой обстановке и с обычной для Тургенева в его романах общественной надстройкой — Подколесина. И не только в романах, а, пожалуй, еще больше в повестях и рассказах Тургенева («Ася» и др.) можно обнаружить эту органическую его боязнь счастья. И отсюда мораль отречения, которую вложил Тургенев в уста героя своего изумительного «Фауста». Счастье это — только приманка, на которую судьба ловит неосторожно клюнувшего на нее человека. За минутную веру в право на счастье приходится тяжело расплачиваться. Гибнет Вера, сделавшая только первый шаг навстречу личному счастью, с тяжелым чувством вины за эту гибель выходит "русский Фауст" подпавший соблазну личного счастья. "Жизнь не шутка и не забава, ... жизнь — тяжелый труд", — вот своеобразный вывод его из этого жизненного крушения, но вывод больше ума, чем чувства. "Отречение, отречение постоянное ..."[3] — это вывод последнего, инстинктивного, чувства боязни счастья. Но как можно отречься от счастья без величайшего чувства грусти? Особенно такому писателю, как Тургенев, который так чувствовал природу в ее непосредственности, в ее органическом стремлении к "полноте бытия", которого не дано без счастья. Отсюда налет грусти на всем творчестве Тургенева.
Усугубляется эта грусть Тургенева еще его глубоким пессимизмом, я сказал бы просто, его безверием. Вчитайтесь в письма Тургенева, и вы увидите, как безнадежно одинок он в своей жизни. Подобно героям своим, он не мог осуществить своего личного счастья. В сущности, сам себя лишил он и другой величайшей ценности в жизни человека — родины. Под чужим кровом, на чужой земле кончает он свою грустную, одинокую жизнь. И любит он эту жизнь грустной любовью человека, обреченного на небытие, ибо знает, что каждый миг — невозвратимо ушедшее в смерть прошлое. И собственная смерть, которой он по-иному, чем Толстой, но также сильно боялся, рисовалась ему настоящим концом без выхода в будущее. Одиноко, с бессловесной тварью, собакой, грустно смотрит он потухающим взором в глаза смерти, и безнадежность светится в этом взоре. Жизнь и творчество Тургенева — подлинная трагедия, до сих пор неосознанная надлежащим образом человечеством.
Как же случилось, что не этот трагический лик Тургенева воспринимается нами, прежде всего, в его творчестве? Почему так долго "настоящий", а я думаю, в этом и есть настоящий Тургенев, остается скрытым от нас? В этом другая трагическая сторона жизни Тургенева.
Он сам больше всего сделал для того, чтобы остаться непонятым. Ибо сам себя он понимал меньше всего. Кажется, Боткин в связи с тургеневским «Фаустом» писал ему, что он не знает, в чем сила его творчества. Он убеждал его отказаться от современности, а дать волю своему лирическому чувству, другими словами, довериться непосредственному инстинкту своего творчества. «Фауст» представлялся ему именно таким непосредственным выявлением творческого гения Тургенева. Но в том-то и была трагедия Тургенева, что он редко отдавался своему непосредственному чувству. Уже по самой природе своей он был необычайно к себе недоверчив и мнителен. Редко кто с такой настойчивостью добивался предварительного суждения друзей о новых вещах своих, мало кто так болезненно воспринимал отзывы после появления их в печати. И с необычайной податливостью менял Тургенев места, вызвавшие возражения, отказывался от целых страниц, встретивших отрицательное суждение. Может быть, именно это отсутствие веры в себя и толкнуло в дальнейшем творчество Тургенева на ложный путь. Необычайный успех «Записок охотника», воспринятых на фоне борьбы за отмену крепостного права, внушил Тургеневу мысль об общественном служении его музы. Конечно, не так грубо было им воспринято свое призвание, но он всегда гордился, что в его романах отражается общественное движение его времени. А в сущности, «Записки охотника» ничего общего с "аннибаловой клятвой" не имели, и вся их сила — в непосредственной художественной силе Тургенева. Достоевский был совершенно прав, когда ни словом не обмолвился о заслугах Тургенева в борьбе с крепостным правом, но не побоялся поставить «Записки охотника», по непосредственному выражению в них национального русского гения, в один ряд с произведениями Пушкина и Гоголя, а привходящий эпизод об Антропке назвать вещью "поистине гениальной". Во внутреннем сознании Тургенева произошло неправильное перемещение в оценке своего собственного творчества, а в силу общего "направленческого" характера русской литературы под этим углом зрения воспринимался и воспринимается Тургенев и до сих пор. Покойный Гершензон в своей книге о Тургеневе[4] несколько приоткрыл нам и другой его облик, равно как и Истомин[5] показал нам с формальной стороны его "раннюю манеру". Но в широком сознании русского читателя Тургенев остался и остается все еще автором русского общественного романа. А эта сторона как раз и перестала находить живой отклик, воспринималась как обязательный материал школьного обучения. А "настоящий" Тургенев оставался, да и остается неизвестным. Да, по существу, он и недоступен для того возраста, когда принято читать Тургенева. Только имея позади долгую жизнь испытаний и разочарований, только постигнув на собственном опыте обманчивость Счастья и приблизившись в жизненном опыте к тому пределу, когда начинаешь понимать, что существует «соблазн счастья», преодоление которого требует, может быть, наибольшего мужества и твердости, начинаешь понимать Тургенева. Но тогда становишься доступным и тому чувству грусти, которым овеяно его творчество и его жизнь,
Печатается по: Молва. — 3 сентября 1933.
[1] См. Лавров П. А. Исторические письма. — СПб., 1870.
[2] См. Бальмонт К. Тургенев как поэт (К 50-летию кончины) // Последние новости. — 15 июня 1933. — № 4467; —22 июня 1933. — № 4474.
[3] Тургенев И. Фауст// Тургенев И. Полн.. собр. соч. и писем в тридцати томах. – Т . 5. – М ., 1980. – С. 129.
[4]Гершензон М. Мечта и мысль И. С. Тургенева. – М., 1919.
[5] Истомин К. Роман «Рудин». Из истории тургеневского стиля// Творческий путь Тургенева. — Пг., 1923.
|