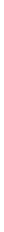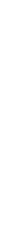H. Г. Чернышевский
(К столетней годовщине со дня рождения)
Сто лет со дня рождения[1] такого человека, как Николай Гаврилович Чернышевский, - веха не забвения, но воспоминания и возврата.
Его основные идеи еще не отжили, да и не могут отжить — пока просвещение не стало всеобщим благом, и социальная справедливость не легла в основу общежития.
Славная и бесконечно тяжелая жизнь Н.Г.Чернышевского так проста внешне, так сложна и глубока внутренне и так поучительна в своей духовной красоте! Сын скромного саратовского протоиерея, он еще из духовной школы вынес знание всего, что могло дать пищу его уму в окружающих книгах и людях. Под руководством вдумчивого и для того времен просвещенного человека, каким был его отец, Николай Гаврилович перечитал все, что можно было достать в городе и в окружающей помещичьей среде, и положил начало весьма основательному изучению восточных и западных языков. По-латыни и по-гречески он еще в училище писал целые рассуждения. В Саратове же Чернышевский изучал татарский, арабский и древнееврейский языки[2] и начал читать на важнейших европейских языках, которыми вскоре овладел в совершенстве. После домашней подготовки родители отправили его в петербургский университет, так как юноша не выражал никакого желания посвятить себя духовному званию.
Университетское преподавание второй половины сороковых годов было безжизненно и сухо-формально. Философские науки были изгнаны; социальная мысль сводилась к восхвалению самодержавия. Но то, что не давалось в университетских стенах, постигалось чуткой молодежью из запретных европейских книг, отражавших бурную политическую и умственную борьбу Запада. Недосказанные слова Белинского о реальной «действительности» воспринимались чутьем во всю глубину их затаенного смысла, а смысл этот указывал на необходимость применения к русской государственной жизни образовательных идей западного социализма. Материалистическое учение Людвига Фейербаха чередовалось с идеями Шарля Фурье, сеявшего семена великих идей трудовой солидарности и непоколебимой веры в лучшее будущее человечества. Научившись у Гегеля диалектическому методу рассуждения, Чернышевский воспринял все, чем жила современная ему европейская жизнь. Переписываясь с отцом в эти годы, Чернышевский часто прибегал к латинскому языку, чтобы николаевские жандармы и почтмейстеры, любители вольного чтения, не могли догадаться, о чем писал молодой студент.
Идеалы Чернышевского складывались под двойным воздействием: ненависти к государственному строю, существовавшему на страданиях бесправного народа, и лозунгов свободы и равенства, раздававшихся с ораторских трибун Запада. Он внимательно следил за: парламентской борьбой и жадно впитывал в себя страстную проповедь французских социалистов. Наряду с этими занятиями Чернышевский не пренебрегал и лекциями университетских профессоров: Как ни мало говорили его душе филологические упражнения, он усвоил все, что могли дать ему Плетнев и Никитенко в области литературной и Срезневский по языку и славянским наречиям. Среди профессоров он быстро приобрел репутацию не только выдающегося студента, но и замечательного ученого. Особенно Срезневский старался выработать из него филолога, много с ним говорил и даже поручил составить словарь к Ипатьевской летописи. Как ни далек был Чернышевский своим пытливым и живым умом от этой полезной, но механической работы, он преодолел себя и словарь к Ипатьевской летописи составил. Заметим вскользь, что этот словарь, напечатанный на почетном месте одного из академических изданий, не потерял своего научного значения и до сих пор. Но после него Чернышевский счел себя вправе не возвращаться к специальным филологическим занятиям и предпочел взять для своей кандидатской работы литературную тему.
Приобретенный им точный метод научного мышления увлекал его, однако, не в сторону литературы, несмотря на то, что последняя пользовалась его горячим сочувствием. Университетская кафедра, по праву ожидавшая лучшего кандидата, заявившего себя на экзаменах более ученым, чем его отсталые профессора, сильно привлекала его, но не сама по себе. Его стремлением было сделать предметом университетского преподавания те философские принципы современного европейского мышления, при свете которых все отрасли человеческого знания, к какому бы разряду они ни относились, приводили бы к единому, цельному и научно обоснованному миросозерцанию. Последнее должно было раскрыть в возможной полноте и смысл исторического процесса, и характер дальнейшего поступательного движения человечества. Естественнее всего научные стремления Чернышевского могли бы быть выражены в виде чисто философских или философско-исторических лекций. Но об этом на рубеже сороковых и пятидесятых годов, в худшие годы николаевской реакции, нечего было и думать: кафедры философии не существовало, философское же направление мысли молодого ученого начинало внушать опасения и самомузапуганному университетскому начальству.
По достоинству оценивая философскую неосведомленность своих профессоров, Чернышевский решил избрать темой магистерской диссертации особого рода рассуждение. Оно должно было иметь все внешние признаки этюда по эстетике, но по существу оставаться проникнутым тем новым, позитивно-материалистическим взглядом на все сущее, который он почитал единственно правильным и истинно научным. В основу рассуждения была положена мысль, служившая развитием последних взглядов Белинского, о том, что человек в своих действиях обязан руководствоваться ясным и точным пониманием реальной действительности, что тогда означало — отдать все свои силы делу освобождения крестьян и борьбе с деспотизмом.
Это так и понималось одинаково и друзьями и врагами крепостничества. «Действительность» на языке той эпохи означала прежде всего крепостную массу русского народа, ожидавшую освобождения от тисков политического и социального угнетения. К этой «действительности» тянулись все мысли и чувства сознательных творцов русского прогресса. Дать стремлениям философское обоснование, связать общей идеей разрозненные усилия и желания, являлось той задачей, которой решил посвятить свой талант и энергию Чернышевский.
Однако предстояла упорная борьба с официальными предрассудками, которые поддерживались в обществе консерватизмом мысли и бездеятельностью. Защитники самодержавия и крепостничества охотно пользовались и приспособляли к своим интересам те истолкования религии и философии, которые как бы узаконили их враждебность ко всякого рода политически и социальным реформам. Обмещанившийся романтизм и односторонне воспринятая гегелевская эстетика были одинаково удобны для поддержания в обществе уверенности, что сложившийся в России порядок ненарушим, и что несовершенство его образованные люди могли восполнять созерцанием прекрасного в искусстве, особенно в поэзии. Охотно повторяли стих Шиллера:
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой...
Много сил положил Чернышевский на борьбу, с этого рода предрассудками. Он доказывал, что человек должен в своей действительной, т.е. разумной жизни самым трезвым, самым внимательным образом участвовать в общеполезном труде, в удовлетворении потребностей общественной среды и народа, ее создающего. Характеристике миросозерцания, к которому принадлежала эта мысль, и была посвящена его знаменитая диссертация "Об эстетических отношениях искусства к действительности". Имея в виду своих будущих оппонентов, он писал свою диссертацию полушутя-полусерьезно, сознательно выдвигая на первый план острые углы своей мысли и не особенно останавливаясь на объективной сущности отдельных предпосылок. Доказывая, что «действительность» искусства, что живое лицо бесконечно выше портрета, хотя бы и написанного первоклассным художником, Чернышевский не столько интересовался существом их отношений, сколько намеренно обострял грани идеологического контраста, чтобы вызвать спор и привлечь к нему внимание. Спор должен был, естественно, подвергнуть критическому пересмотру ряд представлений, державших общественную мысль в состоянии усыпления. При этом становился на очередь вопрос о том, в чем же сознательная личность найдет свое «я»: вдеятельной работе над средой, погрязшей в непонимании самых существенных вопросов жизни, или в устарелых понятиях того патриархального уклада, когда личность не сознавала своих органических связей с социальной средой и народной стихией?
Диссертация Чернышевского, связанная исторически с последними годами николаевского царствования, явилась первым окном в простор европейской мысли. В ней, как и позже, заговорил публицист, имевший исключительную научную подготовку. Философия и искусство не отрицались, но понимались и применялись в том смысле, какой был необходим для защиты идей известного порядка. Внушая эти идеи, Чернышевский не столько служил науке, философии и искусству, сколько мыслил этими категориями творческой самодеятельности человека. Все годилось для построения его мысли - и новые экономические учения, и реалистический характер русской художественной литературы, открывавшей в то время блестящую границу в культурном развитии, - всюду Чернышевский умел находить убедительные доказательства верности своего основного положения о том, что действительное и реальное, как он их понимал, должны составлять предмет исключительной заботы и размышления умственно развитого человека[3].
Следует ли говорить, что защита диссертации в 1853 году, с исключительным успехом проведенная Чернышевским, не доставила ему университетской кафедры? Некоторые профессора, а затем и министерство, почувствовали, что дух и мысли, изложенные в диссертации, при всей их затушеванности, не отвечали характеру официальной науки. Совет университета не мог не признать Чернышевского магистром, но министерство, формально утвердив постановление совета, положило это утверждение под сукно, и держало его в неизвестности в течение шести лет, сообщив о своем утверждении только тогда, когда Чернышевский никакой необходимости в нем не имел.
Правящие власти достигли своей цели: не допустили молодого ученого до общения с молодежью. Но это общение пришло с другой стороны: Н.А.Некрасов, редактор и вдохновитель «Современника», после двухчасовой беседы с Николаем Гавриловичем, передал ему главное руководство журналом. Перед Чернышевским открылась аудитория всей молодой и передовой России, с первых же статей почувствовавшей магическую силу его возбуждающего слова. Место Белинского оказалось снова занятым: у русского общества появился идейный руководитель.
***
Деятельность Чернышевского в «Современнике» представляет собою одну из блестящих страниц русской публицистической мысли. В его лице появился писатель, который возвел публицистику на степень и науки и своего рода искусства. Тонкость мысли и богатство логических оттенков находили идеально простую форму словесного выражения, за которой чувствовался огонь фанатической убежденности. Идейная проникновенность и благородство настроения одинаково воспитывали — и поучали. Пафос ученого и темперамент идеалистически настроенного революционера придавали его стилю особую бесспорность, красоту и остроту интеллектуальной проникновенности. Он вносил эти свойства во все, о чем писал. Его «Очерки гоголевского периода» внушали иное, серьезное, и глубокое, понимание литературы. Они отчетливо проводили, несмотря на цензурные тиски, мысль о таком служении искусству, которое отводило ему роль благороднейшего орудия прогресса. Не называя Белинского, на имени которого лежал цензурный запрет, автор очерков давал, однако, чувствовать, что новое миросозерцание, своим первым появлением в русской литературе, было обязано именно великому критику. Поддержанная Чернышевским идейно-социалистическая традиция становилась руслом, в которое укладывались различные течения сказочно развивавшейся литературы; в «Очерках гоголевского периода» почерпал, между прочим, двоюродный брат Чернышевского, А.Н.Пыпин, вдохновляющие мотивы для своей грандиозной историко-литературной концепции. Рядом с «Очерками» появился блестящий этюд о Лессинге и его эпохе, этюд, далеко не утративший своего значения и до настоящего- времени. В своих исторических мнениях Чернышевский, отбрасывая все теории и взгляды, противоречившие его основному убеждению, что человечество неизменно движется по пути экономического и нравственного прогресса. Так и в область критики литературной он не считался ни с какими авторитетами и установившимися суждениями, если художники не вели читателя к высшим стремлениям идейного и общественного свойства. По мысли Чернышевского, в эпоху напряженной борьбы между насилием и свободой, невежеством и просвещением, все художественное творчество должно было служить победе свободы и правды. Только в этой относительности должны пониматься критические взгляды Чернышевского, выражавшиеся им, по обыкновению, ясно и намеренно обостренно. Любя и поклоняясь Пушкину, он нападал на проповедников эстетической исключительности, прикрывавшихся лавром односторонне понятого пушкинского эстетизма. Противополагая ему гоголевский натурализм, он мог заявить, что для своей эпохи, т.е. для пятидесятых годов, Некрасов был выше, т.е. необходимее Пушкина, ибо стихами Некрасова выражалось народное угнетение и жажда свободы. Тургенев и Гончаров были прекрасными писателями не сами по себе, но потому, что они изобличали дворянскую дряблость и неспособность к действию. Под тем же углом зрения рассматривал Чернышевский и другие литературные явления. Но он вскоре передал критическое перо Н. А. Добролюбову, который явился выразителем и продолжателем его взглядов, сам же он деятельно занялся политическими и экономическими работами, а также вопросами, связанными с приближавшимся освобождением крестьян от крепостной зависимости.
Чернышевский обладал оригинальнейшим даром писательского слова. Слово это не было красочным извне, нигде не обнаруживало художественной преднамеренности, рассчитанной на эстетическое чувство. Но его действие на мысль не только не исключало игры воображения, но, напротив, выражаю сознательную цель вызвать над теоретическим положением, игравшим роль фундамента, сложнейшее построение. Читатель затягивался в процесс этого построения, где воображение читателя действовало уже по законам художественного восприятия. Чаще всего иллюстрировалось одно положение, служившее символом веры писателя: «когда люди поймут... когда они убедятся в истинности тех или иных принципов, - они станут добры, справедливы и счастливы. Одной из многочисленных иллюстраций этого положения и был знаменитый роман «Что делать?», который заключает в себе несколько прекраснейших перспектив возможного на земле счастья, перспектив, повторявшихся в мечтах многих гениальных людей. Смысл этого романа был в свое время ясен всем, кроме цензоров и жандармов; вырабатывать принципы по чертежам высочайших достижении человеческой мысли и подчинять этим принципам свою личную жизнь, а не учиться, как жить, у людей умственно неразвитых, у слепых и безвольных рабов житейской тины. В романе, как и в других произведениях, рассчитанных на игру воображения, осталась незамеченной одна любопытная сторона: удивительная изобретательность логических блесток и изломов. Это настоящее кружево сплетающихся мыслей, их сцеплений и расхождений, уклонов, моментов нападения и защиты. Автору – словно шахматному игроку, — а таковым Чернышевский в действительности был, — хотелось вовлечь читателя в паутину — сложнейших комбинаций и подчинить в заключение логике искусно выработанного плана — «внушить» и «убедить», заставить сказать: как это было сложно и как стало ясно!
Когда-нибудь найдутся не одни лишь «проницательные» читатели, как, смеясь, называл Чернышевский невежественных хитроумцев, но любознательные и серьезные люди, которые прочтут не одно "Что делать?", но и «поэмы», кажущиеся на первый взгляд столь странно-фантастическими. Они раскроют их затаенный, загадочный смысл и скажут, что и в этих поэмах Чернышевский проводил те же простые истины о необходимости переустройства жизни не средствами насилия и борьбы, но путем убеждения и истинного знания того, что полезно и нужно всем без исключения людям. Не философии, не социологии, с ее стареющими для нашего времени теориями, будут они учиться у Чернышевского, — но великому искусству мыслить, познавать и находить свою жизненную цель при помощи и философских и социологических знаний. В этом заключается громадная гуманизирующая сила его сочинений, которая останется вечно юной и неиссякаемо привлекательной. Кому же из его читателей не станет ясно, что без научно выработанного миросозерцания также трудно будет разбираться к жизненном лабиринте, как путнику, ночью бредущему без фонаря? Кто не поверит Чернышевскому, что сознательно стремиться к благородной цели можно тогда, лишь, когда это стремление проникнуто убеждением в достижимости человеческого совершенства? Недаром Николай Гаврилович раньше Гексли опроверг односторонние выводы дарвиновской теории борьбы за жизнь и указал, что классовая борьба вовсе не необходима для достижения социальной справедливости. Читатели оценят и высокий разум исторических воззрений Чернышевского, которые заставляли его отбрасывать всякие иные теории и заключения, кроме тех, которые подтверждали его взгляд на непрерывность и закономерность человеческого прогресса. В этом отношении многие страницы его сочинений, раскрывающих судьбы исторического движения рас и народов, должны были бы занять видное место на страницах учебников, особенно для нашего молодого поколения, идущего в жизнь без веры в ее благое и разумное предназначение.
Не станем здесь останавливаться на перечне научных, экономических, политических и критических статей Чернышевского и высказывать предположения, какие из них более и какие менее полезны современному читателю: Это цель не одной, но многих работ, достойный предмет нескольких диссертаций. Заметим лишь, что сочинения Чернышевского занимают десять объемистых томов, а в эти тома вошло далеко не все им написанное. Эта необыкновенная умственная производительность является тем более поразительной, если принять во внимание, что подавляющее большинство изданных сочинений создано в течение каких-нибудь девяти-десяти лет свободной литературной работы. Можно себе представить, каких размеров и какой ценности досталось бы нам духовное наследство этого исключительного труженика, если бы его личная судьба не сложилась.
Эта судьба – драгоценнейшая жертва, принесенная на алтарь русской народной свободы. И жертва эта не забудется никогда.
Правительство Александра II, вынужденное после крымского поражения заняться крестьянской реформой из боязни народного восстания, было встревожено влиянием Чернышевского на радикально настроенную молодежь, работавшую в народной среде. Правительству было известно убеждение Чернышевского, что в деле освобождения оно остановится на том же полупути, на каком оно останавливалось во всех прочих реформах. Чернышевский предвидел, что правительство сохранит институт многоземельных помещиков и обидит землей крестьян. Он был уверен, что правительству окажется просто не под силу сломить упорство крупных землевладельцев, застарелых крепостников, и без того раздраженных либеральными веяниями нового царствования. Додумывая каждое положение до логического конца, Чернышевский убеждался, что достижение гражданской свободы и экономического раскрепощения не может явиться только в результате всенародного требования. Реформа должна была совершиться, по его мысли, «parlepeuple», но не «pourlepeuple»[4], как думал Герцен, возлагая надежды на добрую волю Александра II: на этом и произошла знаменитая размолвка Герцена с Чернышевским.
Влияние Николая Гавриловича на созданную им прогрессивную интеллигенцию заставило правительство не быть разборчивым в средствах, чтобы в решительный момент перелома, на заре реформы 19 февраля, насильственно устранить его слияние и разорвать умственную и нравственную связь его с существом. Не располагая достаточными судебными уликами, правительство воспользовалось ложными доносами и подлогом одного из своих агентов, арестовало Чернышевского, судило его под давлением высочайшего мнения о «крайней опасности сего литератора» и осудило 4 мая 1864 года на бессрочную каторгу. Во время процесса, сидя в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, Чернышевский, не имея возможности писать политических или экономических статей, придумал новую форму творчества – трактат в виде романа. Этим трактатом-романом и было «Что делать?» Чтобы понять стиль этого произведения и проследить радужный мост, соединяющий Лопухова и Кирсанова светозарными видениями Веры Павловны, надо не забывать, что роман был написан в тюрьме под надзором и в ожидании самой суровой развязки. Это не помешало, однако, Чернышевскому развивать в нем те же идеи, которым он не изменял никогда, стараясь будить в людях бодрость духа и стремление к строительству новой жизни.
Тюрьма впервые и почти навсегда разлучила Чернышевского с семьей. В семье и в литературной деятельности заключались единственные источники его личного счастья и личных стремлений. Лишившись журнала, оторванный от семьи, не зная ни влечений к внешним благам жизни, ни иных страстей, кроме страсти истинного, можно сказать, апостольского служения человечеству, Чернышевский отправился 20 мая 1864 г., после двухлетнего пребывания в крепости, в далекую сибирскую ссылку.
Жандармы помчали опасного «преступника», закованного в кандалы, на тряской телеге, не давая ему отдохнуть, через степи, леса, горы, широчайшие реки, грозившие смертью на переправах, к Нерчинскому руднику, куда и домчали его к половине августа. Там, во мгле и снегах безотрадной пустыни, а затем в Вилюйске, не менее суровом и безлюдном, в помещениях сырых и холодных, вел Чернышевский одинокую, убийственно-однообразную жизнь. И тогда не испытал он ни озлобления, ни ненависти к людям, бывшим его тюремщиками. Он действовал на них своей добротой и терпением, — в конце концов, они становились его почитателями и даже друзьями. Петербургские власти, и, в частности, сам либеральный монарх Александр II, зорко следили, однако, по донесениям своих агентов, за всеми подробностями жизни полярного узника. Боясь побега, о котором Чернышевский и не думал, жандармы приказывали часто менять стражу и производить постоянные проверки. Письма Николая Гавриловича к жене и детям подвергались строжайшему жандармскому просмотру, и многие из них не доходили по назначению. Его «Сибирские письма», недавно дополненные новыми находками, представляют собою единственную в своем роде трагедию могучего духа и пламенного сердца, заброшенного на долгие годы – на целых девятнадцать лет! - в гиблые полярные места восточной Сибири[5]. К этим годам относится одно из трогательнейших стихотворений Н. А Некрасова, посвященное Чернышевскому. Стихотворение это доказывает, с какой нежной скорбной любовью думал поэт о своем неизменном друге:
Не говори: «забыл он осторожность,
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже вас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских...
«Жить для себя – возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!»
Так мыслит он – и смерть ему любезна,
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна.
Его еще покамест не распяли,
Но час придет – он будет на кресте.
Его послал Бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.
Пользуюсь случаем возразить г. К. И. Чуковскому, который в примечании к напечатанному выше стихотворению (Полное собрание стихотворений Н. А. Некрасова, редакция и примечания Корнея Чуковского. – М -Пб., 1927. С. 563) относит первую редакцию его к 1874 г.
«Существует много автографов этого стихотворения, — говорит г. К. Чуковский. — На одном из автографов - очевидно, первом (?) - дата, приводимая нами:. 8 августа 1874 г. Таким образом, едва ли верно предположение Е. Ляцкого о том, что стихотворение написано в 1862 г., когда Чернышевский находился в Петропавловской крепости. («Чернышевский в Сибири». - II. - 1912. - I. - С. VII). Против единственного аргумента — «очевидности», засвидетельствованной г. К. Чуковским, о том, что автограф, ему известный, является «первым», должен заметить следующее. Во-первых, предположения, что стихотворение было написано именно в 1862 г., я нигде не высказывал, и такое утверждение является домыслом самого г. К. Чуковского. Во-вторых, относить стихотворение к годам пребывания Никола Гавриловича в крепости я, вместе с М. Н. Чернышевским, имел все основания, так как в нашем временном распоряжении имелся еще один, уженесомненно первый автограф Некрасова, написанный на оборотной стороне чернового письма поэта к какому-то лицу, имевшему отношение к управлению Петропавловской крепостью. Содержание письма не оставляло никакого сомнения, что оно, как и написанное на обороте стихотворение, не моглоотноситься к иному времени, чем к годам пребывания Николая Гавриловича в Петропавловской крепости, что, впрочем, и без того было известно его сыну. Разбирая вместе с последним текст этого первого чернового наброска с автографом, имевшимся в его архиве, мы увидели, что существенных разночтений не было, как не было и выражения «царям земли» вместо «рабам земли». Помимо этих фактических соображений против домысла г. К. Чуковского говорит и самое содержание стихотворения, указывающее и на свежее впечатление поэта после разговора с кем-то из близких лиц и на неизвестность судьбы Чернышевского («его еще покамест не распяли...»), когда можно было ожидать не только ссылки, но и фактической казни. Некрасов не готовил своего стихотворения для печати, и сомнительно, чтобы он в каком-либо автографе заменил сильное и так идущее к тону всего стихотворения «рабам земли» дешевым «царям земли». Некрасов слишком хорошо знал Чернышевского, чтобы заставлять его напоминать о Христе «царям земли». На этом основании мне представляется сомнительной принадлежность списка, с которого печатал г. К.Чуковский свою редакцию, самому Некрасову. Поэтому поправка эта лишена основания, тем более, что мой текст засвидетельствован приложением фототипического снимка автографа.
Чернышевский сохранил невозмутимую твердость духа, преодолевая ужасное одиночество, граничившее с сознанием заживо-погребенности. Его неутомимо-деятельный ум продолжал питаться размышлениями о тех же социальных и экономических проблемах, над которыми он работал за своим столом ученого и редактора в Петербурге. Краткие отражения этих размышлений сохранились в письмах к детям, которых он из своей якутской могилы пытался учить мыслить и жить в гармонии с самим собою и с неизменной любовью к людям. «Сибирские письма» представляют незаменимый воспитательный материал, который одинаково может возбуждать и педагога, и учащегося к высшим стремлениям в области культуры и знания. Сохранившихся в «Сибирских письмах» научных и философских указаний, при всей их отрывочности, достаточно, чтобы пробудить в молодом уме жажду интеллектуальной самодеятельности и нравственного совершенства[6].
Только в 1883 г. не прекращавшиеся хлопоты Пыпина и друзей Чернышевского склонили императора Александра III к тому, чтобы разрешить ему вернуться к семье. Однако правительство, в течение многих лет не разрешавшее появления самого имени Чернышевского в печати, продолжало питать суеверный страх перед ним и после девятнадцатилетней ссылки. Оно не разрешило ему поселиться в столице или даже в Саратове, его родном городе, назначив для пребывания отдаленную Астрахань, город без интеллигенции и без умственных интересов. Седой, недужный, но не утративший блеска живых и добрых близоруких глаз, глядевших через стекла очков, приехал Чернышевский в сопровождении жандармов в Астрахань. Едва свидевшись с женой и детьми, он тотчас же засел за литературную работу, которая должна была служить источником существования его и семьи. Ему был предложен перевод многотомной «Всеобщей истории» Вебера, которую Чернышевский начал значительно исправлять, сопровождая текст ценнейшими примечаниями. Тогда же написал он и статьи «О характере человеческого знания» (1886) и «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» (1888) – обе эти статьи не должны быть забыты. Читатель усмотрит из них, что этот изумительный работник ничего не отдал полярной пустыне: ни веры в лучшее будущее, ни пламенной любви к науке, ни убеждения, что разум приведет, наконец, людей к пониманию и полезности, и красоты для них света, любви и правды. То не было слепое упорство человека, оторванного от умственного движения его эпохи. Николай Гаврилович быстро освоился со всеми новыми достижениями и ясно увидел, что никто из учителей его мысли не устарел и что новая наука не выработала ни новых методов познания, ни новых целей служения человечеству. Выросло только новое поколение: оно не дало заглохнуть семенам, которые он так щедро бросал на ниву общественную. Это поколение уже нельзя было назвать «лишними людьми»: новые люди работали и боролись и среди народа, и в обществе, и в науке, и в литературе, - всюду, где приходилось шаг за шагом отстаивать право на дальнейшее развитие России, на подъем народного просвещения, на укрепление экономического роста и социально-политического сознания. Чернышевский с прежней жадностью набрасывался на всякую книгу и журнал, которые могли познакомить его с современным состоянием России. При всем разочаровании, какое он должен был испытывать, наблюдая судьбы крестьянского хозяйства, общины, рост буржуазии и отсталость рабочего класса, он не мог не придти к заключению, что в России совершился громадный процесс внутреннего переустройства, изменивший и умственную физиономию русского общества, и самую его психику, встревоженную, пробужденную и уже обращенную к будущему. На фоне этой современности Чернышевский с чувством нравственного удовлетворения мог оглянуться на краткие годы своей кипучей деятельности и на долгие годы непрерывной нравственной муки и повторить замечательные слова, оброненные им в одном из писем к жене: «в прошлом все хорошо, и пусть думают о нем наши дети».
Мысль Чернышевского продолжала работать ясно и неутомимо. Но здоровья уже не было. Ни советы врачей, ни забота родных не могли вернуть навсегда покинувшие силы. За несколько месяцев до смерти ему было разрешено переехать в родной Саратов. Но жизнь была разбита. Оборвалась она в ночь на 17 октября 1889 года.
В Саратове воздвигнут ему памятник, там есть дом и музей его имени. Но лучшим памятником было бы популярное издание тех его сочинений, где с особой яркостью проводилась мысль, что не путем крови, насилия и тирании дойдет человечество до разрешения величайших проблем свободы и равенства.
Евг. Ляцкий.
Печатается по: Русская школа за рубежом. – 1927-1928. – № 29-30 (5-6). – С. 764-775.
[1]День рождения - 12 июля 1828 г.
[2] Знание этих языков считалось, по тогдашним местным условиям, необходимым для молодых людей, готовивших себя к священническим - в частности, миссионерским обязанностям.
[3] Подробная история диссертации Чернышевского рассказана мною в статье: «Н. Г. Чернышевский и его диссертация об искусстве»// Голос минувшего. – 1916. – кн. 1.
[4] «самим народом», а не «для народа».
[5] «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными. Статья Е.А.Ляцкого. Примечаниям. М.Н.Чернышевского. В З т. Спб.,1912-1913. В этом издании, во вступительных статьях, мною рассказана жизнь Чернышевского в годы ссылки: «Нерчинский рудник» и «Вилюйск в Якутской области».
[6] Сыновья Чернышевского Миша и Саша, которых уже нет в живых, производили на всех, кто их знал лично, впечатление людей, воспитанных внушением начал честной, трудовой и интеллектуально-возвышенной жизни.