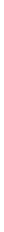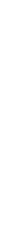ЕГОР ЯКОВЛЕВ: ГУЛАГ ТОЖЕ УЙДЕТ В СНОСКУ
март 1996
"Московские новости" конца 80-х гг. стали для меня и учебником истории, и учебником литературы. В какой-то мере — и учебником журналистики. Думаю, что не только для меня. За этой газетой приходилось вставать и уходить куда-то в ночь, занимать очередь в киоск. В очереди все друг друга уже узнавали, справлялись о здоровье, сетовали на то, что нельзя подписаться (и долго нельзя было). Потом главный редактор "МН" Егор Яковлев из газеты ушел, возглавил "Останкино". Затем создал "Общую газету", которой бессменно руководил вплоть до закрытия.
— Когда вы стали во главе газеты "Московские новости", приходилось ли вам учить тех журналистов, которые у вас работали? Ведь это была совершенно иная газета.
— Я работал во многих московских газетах, исполнял там самые различные должности. Я не был только в одной должности: зам. зав отделом. Все должности в газетной номенклатуре я прошел. А понятие "учить" — оно немножко другое.
Когда я создавал журнал "Журналист", это происходило наиболее явно: не учеба, а передача твоих критериев другим людям. Нельзя объяснить на словах. Читая статью, всегда спрашиваю: есть в ней сверхзадача? Ради чего эта статья? Вот это я и старался передать. Я в "Журналисте" придумал такую систему, при которой выдвинул пять критериев прохождения статьи. Если совпадают два — статья проходит, больше — лучше, но одного критерия недостаточно. Социальный заказ (или заказ редакции на материал, в котором она очень заинтересована), талантливый автор, высокий потенциал информации, новая литературная форма, сенсационность.
Систему я активно внедрял, будучи человеком занудливым и упорным. Не могу сказать, что она дала что-либо значительное. Есть другая вещь: когда редакция разделяет твой способ мышления, разделяет твои взгляды. Эту радость я испытывал в "Журналисте", а в "Московских новостях" я уже знал, что так и будет. Представьте такую ситуацию. Тебе не понравилась сданная статья. Ты объясняешь, разъясняешь, что тебя не устраивает в этой статье, почему она недостаточна хороша. Журналисты внимательно слушают. Они люди не тупые, не глупые, но завтра сдают точно такие же статьи. Лезешь на стенку, уходишь штопором в потолок, естественно. Но вдруг неожиданно наступает момент, когда люди начинают разделять твои критерии. Это не образование, это перенесение в других людей твоих критериев. Вдруг твои критерии делаются их критериями.
— Вы можете вспомнить журналистов, которых открыли, которые могли бы называться вашими учениками?
— Учениками — никого, в этом смысле я не учитель. Было много людей, которые начинали у меня. Это и Виталий Третьяков, главный редактор "Независимой газеты", и Наташа Геворкян, да и десятки других толковых и талантливых людей. Дело не в том, что я такой прозорливый. Просто побывав много раз главным редактором, руководителем тех или иных подразделений, познакомился со многими журналистами. Того же Лошака можно вспомнить, когда он, одессит, оказался без московской прописки, и мне позвонили из "Известий" с просьбой помочь. А мой первый зам Виталий Ярошевский? Я увидел его в Праге и тогда взял сюда. На три дня я слетал в Мадрид с Горбачевым, там была встреча по поводу. Увидел там молодого человека, очень толкового, образованного, с очень хорошими манерами. Работал он в пресс-службе Горбачева. Я позвал его в "Останкино" на должность политического директора. Нам нужен был тогда человек, который занимался бы политическими программами. Это был Игорь Малашенко, сегодня он председатель НТВ. Вроде бы вынырнул из небытия, но ведь Игорь сам очень способный человек.
Кстати, когда статьи редактора никто не правит, ничего хорошего из этого не получается. В свое время Толя Аграновский ходил по редакции и просил: "Ребята, прочтите, что у меня получилось".
— У вас есть какие-то свои, особые рецепты?
У меня есть несколько правил. Первое: никогда не требовать от человека больше, чем он может. Стараться понять и никогда не требовать. В "Советской России" у меня был заместитель, с которым я был всегда предупредителен и нежен. Он был самым глупым и самым несчастным человеком. Я никогда не позволял себе быть с ним ни грубым, ни резким, потому что понимал, что он работает на максимуме своих, увы, ограниченных, возможностей.
Подводит же меня то, что я слишком доверчив. Всегда верю людям. Презумпция веры в человека частенько меня подводила.
— Вас часто обманывают?
— Бывает, но стоит мне один раз убедиться, что человек сознательно меня обманывает, врет, и он для меня кончается. Вроде благородная привычка — верить людям, но я бываю крайне жесток, когда люди меня обманывают. Вообще, я легко прощаю обиды, но обман... Я завожусь с полуоборота, и быстро остываю. Меня это немножко спасает в жизни, потому что выходит энергия, а потом я прихожу и извиняюсь. Признать себя неправым, принести извинения для меня не представляет никакой сложности.
— Был ли для вас момент, когда вы почувствовали, что вдруг сами изменились, что резко изменилась, как теперь говорят, "ваша парадигма мышления"?
— Во-первых, меня всю жизнь преследует комплекс моей необразованности. Я всегда от этого очень страдаю. Много занимался в юности комсомолом, общественной работой, хотя любил свой институт и прилично учился. Но слишком много времени было потрачено на общение за счет чтения. Нагнать это уже невозможно, отсюда и этот комплекс, который сидит во мне постоянно, не выходит из меня. Я не могу сказать, что разделяю мнение о том, что в ту эпоху нельзя было дышать. У меня жизнь сложилась так, что меня никогда не преследовали. Отца я в последний раз видел, когда мне было пять лет. Он умер от рака в 1935 г. Доживи он до 1937 г. — его бы обязательно расстреляли. А в школе мы всегда говорили и делали то, что считали нужным. В институте делали острую по тем временам стенную газету. И вот когда я пришел в 1956 г. в "Московскую правду", там работали старые журналисты. Все взахлеб говорили о свободе, какая свобода пришла после ХХ съезда и т.п. А я не мог эту свободу ощутить, потому что не ощущал несвободу ни в институте, ни в школе. Была своя жизнь, ей не мешали. Сложились жизненные правила, согласно которым я и жил. Поэтому нельзя сказать, что для меня приход Горбачева открыл какие-то новые возможности. До него меня уже три раза за свободолюбие выкидывали из разных редакций. Другое дело, что я пересмотрел категорически свое отношение к революции...
— Да, ведь у вас было несколько книг о Ленине...
— ... и свое отношение к Ленину. Вот это я пересмотрел категорически. Я много лет занимался Лениным усиленно. Есть несколько стадий. Первая — когда Ленина не знаешь, и можно о нем рассказывать анекдоты. Есть вторая: я практически знаю Ленина по томам. Проходишь по биографической хронике за ним всю жизнь. Спрашиваешь себя: "А как бы ты поступил в этом случае?" И понимаешь, что поступил бы точно так же. Понятно, не имеется в виду расстрел попов. И меня все время ужасно раздражало, что я не достиг следующей стадии его познания — стадии критики учения. Какие-то вещи понятны: например, то, что крайне рискованно было насильственным путем будоражить страну, чтобы строить социализм. Такие элементарные вещи мне были понятны. Но есть более серьезные стороны его учения, которые надо понять и уметь критиковать. И вот до 1989 — 1990 гг. был определенный обруч восприятия, а затем пошло освобождение от него. И я не мог критиковать Ленина не потому, что голова плоха (впрочем, может, и голова не очень-то хорошая), а дело в общественном мышлении. Общественное мышление было настолько скованно, что оно не было готово критиковать Ленина как философа, как ученого. Мы были слишком оторваны от других источников, от других вещей. У меня был специальный шкаф с литературой о Ленине, о ленинизме. Но это все равно не помогало.
— Вы сейчас по-прежнему считаете, что он философ, ученый, что было оригинальное учение?
— Конечно.
— ...хотя это определенный комплимент.
— Нет, это не комплимент. У него действительно было учение, пусть очень схоластическое, но было. Породил его определенный исторический период. То, что мы сегодня находимся в вакууме, где отсутствуют идеи, — это тот же период исторического провала. Что-то созревает, у кого-то в голове варятся идеи, но что предложить обществу? Я не готов что-либо предложить, вы не готовы, но у кого-то варится в голове.
— Но эпоха исторического провала обычно бьет прежде всего по молодым ребятам. У вас были проблемы как у отца двоих детей?
— Да в общем, знаете ли, не было. Мы всегда жили по совести, поэтому критиковать меня с точки зрения совестливости, карьеризма у детей повода не было. Тут мне удалось стать для них примером. Жена Ира посвятила себя детям, в этом смысле мне очень повезло. Бывает у женщины талант жены — самый лучший талант. Ира посвятила себя семье, хотя тщеславна больше меня, и за мои книжки и неудачи переживает больше меня. Ребята были всегда свободны в своем росте. Не могу сказать, что это нас очень радовало, тут у нас были свои переживания. Дочка сейчас живет в Шотландии, при буддистском монастыре. Издает единственный в мире буддистский журнал "Путь к себе". Володя тоже очень увлекается буддизмом. При этом семья наша абсолютно атеистическая.
— Когда вы резко изменили лицо газеты, вы ожидали столь бурной реакции? Извините за резковатый вопрос, вы ощущаете, что и положительные и отрицательные изменения в обществе были спровоцированы газетой и миллионами ее читателей?
— Для этих читателей я и работал.
— Но вы перед ними в ответе.
— Мое поколение устроено так, что все у нас будет завтра. Всю жизнь пытались соединить жизнь и песню, но пока к этой песне только идем. Сейчас я поуспокоился. Я никогда не понимал, какая это радость: выходишь из редакции каждый вечер, и стоят сотни людей, и аплодируют, и протягивают руки, и говорят что-то ободряющее. Ну, стоят себе и стоят. Уже после "Московских новостей" я стал понимать, какое же значение они имели. А когда работал в газете — выражал самого себя, свои убеждения. Не мог, например, не опубликовать некролог на смерть Виктора Некрасова.
Когда я стал председателем "Останкино", Ельцин мне начал легко подхамливать, менять ко мне отношение. Я пришел к нему:
— В чем дело? Мне кажется, что вас раздражают наши добрые отношения с Горбачевым.
— Да.
— Могу вам больше сказать: недавно мы с Ирой были у него и у Раисы Максимовны на даче.
— Что ж, мы этого не знаем, что ли?
Но я не знал, что за мной так следят. Надеялся, что следят только за Горбачевым. Я напомнил Ельцину, что мы не были знакомы, когда он был первым секретарем Московского горкома партии. И я был первый журналист, который взял у него интервью. А после Вильнюса у нас были полностью прерваны отношения с Горбачевым. Мы опубликовали на первой полосе: "Преступление режима, который не хочет уходить со сцены". А потом нас было всего лишь несколько человек, которые оставались с Горбачевым до последних дней: Андрей Грачев, Александр Яковлев и я. И я сказал Ельцину: "Быть порядочным перед самим собой мне важнее, чем быть порядочным перед президентом".
Так что я работал не для читателей, работал для себя.
— Но многие хотели жить по совести, и многие хотели работать на самих себя. Но получалось не у многих.
— И у меня не получалось.
— А не жалко было уходить из газеты?
— Из газеты я ушел сознательно. Я исчерпал себя в ней. За какое-то время до путча я провел месяц на даче в поисках новой концепции "Московских новостей" и ничего не придумал. Концепция была исчерпана. Все, ради чего затевались "Московские новости", уже было достигнуто в плане "гласности", в плане свободы слова. Подтекст ушел, сопротивление ушло.
— Но вы не придумали новой концепции для существующей газеты, зато создали новую...
— Для "Общей газеты" у меня написана 20-страничная концепция. Она была создана для двух вещей: освобождения людей от приватизации, которая, как я считал, приносит большой вред людям, а второе — помощь в выработке нового мировоззрения. Лишившись марксистского мировоззрения, которое тогда господствовало, люди все равно хотят на что-то опираться.
— Вы смогли бы определить это мировоззрение одной-двумя фразами?
— Видимо, это мировоззрение сводится к общечеловеческим ценностям. Там было несколько лозунгов: "Отрицать не разрушая", "Понять себя — не время", "Ни одного умного человека за бортом". Ведь после 1992 г. пошло резкое снижение интеллектуального уровня власти. Эти три позиции мы старались соблюдать, они лежали в основе газеты.
— Это правда, что во время путча были организованы радиотрансляции из министерства образования на Чистых прудах?
— Об этом не знаю ничего. Единственное, что я сделал — нашел большой "матюгальник", выставил из окна редакции на Пушкинскую площадь, и Саша Кабаков вел передачи. На площади скопилась уйма людей, и мы первыми сообщили, что — все, они выводят войска. И поднялся крик радости.
— Вы ощущаете Кабакова как писателя?
— Нет. У меня сложное к нему отношение.
— Но вещи его читаете?
— Читал несколько. Мне не нравится их сексуальная сторона, да и сам Кабаков как писатель не нравится. Он был очень хорошим корреспондентом.
— Репортером?
— Нет, обозревателем. Даже не аналитиком, а человеком, который может умно порассуждать о стиляжестве, о традициях и прочем. У него хорошее перо, но замом главного редактора я его никогда не видел, не вижу и сейчас. Замом его сделал В. Лошак[1], который привел его когда-то из "Гудка", они старые друзья.
— А чего вам не удалось сделать в "Останкино"?
— Ничего. Практически ничего. Я был наивным, и полагал, что если прийти в "Останкино" и открыть свободный эфир, то сразу из воздуха пойдет движение, принесет свободу людям. Но оказалось, что коллектив "Останкино" сложившаяся атмосфера вполне устраивала. Им было гораздо удобнее кабально-подчиненное состояние, которое намного проще состояния свободного творчества. Поэтому тяга не пошла. Уже сложилась невероятная коллективизация. Я этого не понимал. На днях был скандал, когда мы опубликовали в "Общей газете" материал по поводу смерти Листьева. Причем написала Аня Политковская, жена Саши. О том, что Листьев погиб ни за что. Это был первый фрак, первый лучший гроб и лучшее место на кладбище рядом с вором в законе. Вот и вся оболочка телевизионной звезды.
— Вы хотите сказать, что ничего не знали о коррумпированности эфира?
— Ничего не знал. Только в конце узнал, когда уже уходил. Приведу такой пример. Если бы в "Известиях", откуда я вышел, прошел слух, что Егор опубликовал статью, за которую получил деньги, со мной бы перестали здороваться. Не нужно было бы никаких доказательств, слуха было бы достаточно, чтобы руки никто не подал. А сейчас на телевидении презирают того, кто не взял денег.
— Но ведь были известны едва ли не конкретные суммы — за репортаж, за материал, даже за упоминание... А убийство редактора музыкальных программ?
— Первый звонок прозвучал в разговоре моей жены Ирины и шофера персональной машины. Они заговорили о покупках, и Ира сказала, что какая-то покупка нам не по карману. А шофер усмехнулся: "Неужели Егор Владимирович не может себе позволить? Он что, ничего "сверху" не имеет как председатель телекомпании?"
— Если узнают о вашем сотруднике, что он взял деньги за скрытую рекламу, то с ним перестанут поддерживать отношения и этот сотрудник уйдет?
— Абсолютно. Другое дело, что людей может не устраивать заработная плата и сотрудник может уйти в другое издание, где больше платят, но грязи в "Общей газете" нет.
— Когда вы пишете, пользуетесь ручкой или компьютером?
— Машинкой.
— Но ведь компьютер — та же машинка, только с памятью.
— Просто руки не дошли. В "Московских новостях" у меня был компьютер, я оставил его, когда ушел из редакции. Как вошел, так и вышел: все оставил, включая компьютер, мебель, шестиэтажное здание в центре Москвы... Нормальное дело. А как работать — дело привычки. Я всегда работал на машинке, мама всегда работала на машинке. Она была переводчицей. Дома еще хранится старый "Ундервуд".
— А с какого языка она переводила?
— Мама... У меня довольно-таки странная семья. Мы из рода Полубояриновых, довольно бедный дворянский род. Иван Грозный когда-то привез грузина-боярина, который был весьма легкомысленным в отношении женского пола. Царь рассердился и сделал его Полубояриновым. Вот отсюда и идет род Полубояриновых. Кстати, недавно сын Володя разыскал в гербовой книге наш герб. А отец с 1914 г. был в революционном движении, председатель Одесской ЧК, зам. пред. Всеукраинской ВЧК, замминистра иностранных дел Украины. Был очень близок с Дзержинским. Он умер в 1935 г., не дожив до террора 1937 г., был в каком-то невероятном звании: четыре ромба запаса по ВЧК. До революции бабушка второй раз вышла замуж за англичанина. Они уехали в Лондон вместе с моей мамой, которой было тогда четырнадцать лет. И мама с тех пор работала за границей, пока в 1929 г. не приехал в Лондон большой советский начальник, это и был наш отец. Они познакомились, три года продолжался роман, пока оба не переехали в Россию. И мама очень часто сбивалась в разговорах на английский. Она была одной из немногих переводчиц перед войной, которые знали английскую стенографию. Поскольку магнитофонов не было, маму высоко ценили в ТАССе (тогда Совинформбюро). Она работала на радиоперехвате, стенографируя передачи. Объявили вдруг, что начинается война, мама уехала в Москву — мы тогда жили в Малаховке. Она начала первой принимать речь Черчилля, в которой Черчилль объявил, что Англия будет помогать России. Мама ее записала, расшифровала запись, директор ее поднял на руки, поцеловал, схватил текст и помчался к Сталину. Вот такая была история.
— Когда вы смотрите на то, как устроен издательский дом "Коммерсант", вам часто хочется вмешаться?
— Видите ли, мы с Володей[2] стараемся как можно меньше говорить о делах. Лишь однажды — перед самым уходом из "Московских новостей" — я вел с Володей диалог. И мне казалось это очень полезным, я понял, насколько он умнее меня, современнее, и что хватит мне шипеть по-отцовски и т.д.
— Вы читаете его издания?
— "Daily Коммерсантъ" я не читаю. Он меня немножко раздражает, потому что при самом беглом обзоре требуется сорок минут, чтобы с ним ознакомиться. Я читаю газеты в пять утра — вчерашние, конечно. Просыпаюсь я рано, лежа в кровати почитываю. И сорок минут на один "Коммерсант" многовато. Он для меня великоват. Я смотрю "Известия", "Московский комсомолец".
— А его журналы?
— Ира читает "Домовой", потом дает мне.
— Егор Владимирович, а где вы учились?
— Я — московский парень. Родился в Замоскворечье. Там окончил школу, поступил в историко-архивный институт. Уже на пятом курсе меня избрали секретарем Свердловского райкома комсомола. Диплом защищал, работая, и поэтому не воспользовался рекомендацией в аспирантуру, которую мне давали как окончившему институт с отличием.
— Запомнились ли вам какие-то преподаватели?
— Да, и многие. Прежде всего, запомнились те учителя, у которых учился в последние годы войны. Мы были желторотыми, а в девятые классы уже приходили ребята без рук, без ног — те, кто уходил воевать из старших классов.
Так что понятие учительского подвижничества для меня связывается с двумя-тремя людьми в нашей школе. Был такой Нисон Осипович Шинкарев — наш классный руководитель. У него сын погиб на фронте, дома была тяжелая обстановка. Каждое утро он приезжал в 8 часов в школу и до начала занятий каждый день занимался с отстающими учениками. Никогда не получал за это, разумеется, никаких денег. Был очень строг при этом.
Но это подвижники. Хотя и самая большая ненависть для меня осталась в школе — к химичке, которая по-всякому утверждала себя за счет самолюбия учеников. Математику я тоже не очень любил, Шинкарев был математиком, но это не имело значения. Ну и, конечно, были прекрасные профессора в историко-архивном институте, редкие просто профессора. Я поступил туда в 1949 г. Многие из профессоров историко-архивного оказались в нем после изгнания из университетов в связи с "космополитизмом". Остались две профессии, которым я до сих пор удивляюсь. Когда я начал в 1955 г. работать в печати, то каждое письмо в редакцию для меня было криком души, болью, я был готов мчаться на край света, спасать, защищать, выручать. Увы, с годами уходит это чувство. Мой друг нейрохирург каждый день работает в больнице. У него умирает человек на столе, и он может запить, впадает в невероятную тоску, словом, переживает смерть больного по-прежнему. И вторая профессия — учителя. Взять хотя бы такой момент: проводить класс, взять новый, опять влюбиться в него, жить этими судьбами. Это для меня загадки, постичь которые я не способен.
— Сейчас выросло поколение, которое не помнит ни Брежнева, ни Андропова, ни все эти прежние игры. Какую опасность вы видите в этом поколении и что вас больше всего в этом поколении радует?
— Радует меня то, что они не ценят наши переживания. Мы прожили свою жизнь с идеей улучшения этого общества. Поймите, не я один: и мой ныне покойный друг Лен Карпинский, и Твардовский, и все шестидесятники. Общество развалилось, потому что оно улучшению не подлежит. Мы эмпирическим путем пришли к пониманию того, что ничего нельзя отколупнуть от стены социализма: стена рушится. Так что мы не зря прожили свою жизнь: именно это мы всем и показали. Сегодняшнее поколение этим не больно, чему я весьма рад.
Когда я посетил Музей Катастрофы, состояние мое было не очень комфортным. Я помню войну, я ею переболел. И не нужно расковыривать мою затянувшуюся рану. После войны пленные немцы много строили в Москве. Они ходили по квартирам и просили хлеба. И мы им всегда хлеб давали. Только один наш сосед, Коля Брейтвейт, спустил немца с лестницы. Но Коля бежал из Освенцима.
Так что если нынешнее поколение уходит от прошлого, считает, что жизнь шестидесятников или диссидентов — не подвиг, это нормально. Раны должны затягиваться. Иначе невозможно. Поэтому я рад, что нынешнее поколение достаточно "толстокожее" — в хорошем смысле слова.
Когда-то во время войны в театре Вахтангова шла пьеса, довольно популярная. Там молодой человек беседует с девушкой, и девушка его спрашивает: <<Ты "Войну и мир" читал?>>. Он отвечает: "Нет, слушал по радио". И зал гомерически хохотал. Сейчас людей, слушавших "Войну и мир" по радио, все больше и больше. Когда-то в середине 60-х в Детгизе я был поражен, что Михаил Иванович Калинин уже сопровождался сноской: такой-то и такой-то. Ну, так скоро будет сноска на Гулаг. Жизнь идет.
— Какое качество вам хотелось бы воспитать в читателях "Общей газеты"[3] или против чего сделать прививку?
— Самое важное — это терпимость. Самый большой вред, который нанесла предыдущая идеология, — это идеология нетерпимости, неприятия, поиска врага. Школа пока еще нетерпима. Но, видите ли, в чем дело, школа всегда должна немного отставать, так уж она устроена. Так и должно быть: нельзя же воспитание ставить на уровне политических забегов вперед, которые постоянно происходят. Это было бы ужасно. Школа — самое массовое, что есть. Не могут же все учителя быть на уровне передовых мыслителей, политиков и психологов. Но воспитывать терпимость сегодня необходимо. По специальности я историк, так вот, вся история построена на нетерпимости.
[1] Виктор Лошак сменил Е. Яковлева на посту главного редактора «Московских новостей», с 2003 г. — главный редактор журнала «Огонек».
[2] Сын Е. Яковлева Владимир создал издательский дом «Коммерсантъ» — уникальное явление в постсоветской журналистике, где по сей день издаются популярнейшие журналы и газета.
[3] Ныне «Общая газета» под давлением изменившихся обстоятельств закрыта.