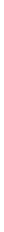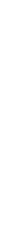Когда мы говорим о шестидесятниках, нам вспоминаются прежде всего яркие приметы: журнал "Новый мир", песни Высоцкого и Окуджавы, мемуары Ильи Эренбурга "Люди, годы, жизнь". Однако в России всегда была когорта пишущих людей, считавших себя вправе объяснять не только литературу, но и реальную жизнь. Оттого и называла себя "реальной критикой". Одним из тех, чьими мыслями и трудами создавалась удивительная атмосфера 60-х г., был Бенедикт Михайлович Сарнов: писатель, публицист, литературный критик.
— Вы окончили Литературный институт. Как же вас учили на писателя, на литературного критика?
— Согласно Уставу Литературный институт ставил перед собой задачу дать высшее филологическое образование молодым писателям. Таким образом, писательский статус за студентами признавался как бы изначально. Еще до сдачи вступительных экзаменов проходил творческий конкурс, и отбор был очень жестокий по тем временам. А потом уже нас учили как нормальных студентов-филологов.
— Запомнился ли вам кто-нибудь из преподавателей?
— Еще бы. Профессора у нас были замечательные. Радциг читал античность, Бонди — спецкурс по Пушкину и теорию стиха, Реформатский – введение в языковедение, а Валентин Асмус читал историю философии.
— Говорят, что в послевоенных вузах требования к студентам были в значительной мере снижены?
— Просто делали скидку: было много фронтовиков. Не было гигантских факультетов. Всего в институте училось 120—130 студентов, а на курсе — 20. Но были семинары, кроме того, был подоконник, около которого собирались и читали то, что не могло прозвучать на семинаре. На подоконнике свои, неформальные критерии. Мягко говоря, иронически относились к Долматовскому, выражение Глазкова "долматусовская ошань" во многих случаях стало универсальной оценкой. Был культ Пастернака, самого Глазкова. Я учился на втором курсе, когда арестовали Коржавина — тогда мы его знали как Эмку Манделя: "грузовики гудели по ночам". Был такой Костя Левин – ему переломили спинной хребет, затем вышла посмертная книжка.
Были семинары Паустовского и Федина. Я сам занимался у Паустовского; Юрий Трифонов – его любимый ученик, Борис Балтер, написавший "До свиданья, мальчики", Бондарев и Бакланов, в ту пору – не разлей вода.
— Есть ли какой-то образовательный пунктик, за который вы себя иногда упрекаете?
— Я бесконечно презираю себя за то, что владею только русским языком. В детстве даже учителя были, но мое знание английского языка – чудовищно. Я очень слаб в этом смысле. Мой курс в Литинституте – фронтовики, с них спрос был небольшой в смысле учебы.
Хотя курс был очень сильный: Тендряков, Солоухин, Евгений Винокуров, Григорий Поженян – практически не было ни одного человека, который бы не вошел в литературу, не стал бы активно действующим литератором. Мы тогда плохо понимали, что может дать институт. На занятиях Бонди мог почерпнуть гораздо больше, чем почерпнул. Все дальнейшее – самообразование. Надежда Яковлевна Мандельштам говорила: "Все что я знаю, знаю из гимназии". Вот я и должен был сообразить, что нельзя ждать скидки, не надо пользоваться этими льготами. Проскочили мимо меня вся древняя литература, фольклористика.
— Было ли какое-то распределение после окончания института?
— Нет, конечно. Окончил институт в 1951 г. — разгар борьбы с космополитами. О штатной работе не было и речи, хотя окончил институт вполне благополучно. Например, в "Литературной газете" вышла двухподвальная статья о выпускниках Литинститута, и меня там доброжелательно упомянули. Потом я довольно регулярно печатался в Литгазете. Отвечал на детские письма в "Пионерской правде" по рублю за ответ. В "Литературной газете" это делали и Владимир Максимов, и Балтер, и Коржавин. Кроме того, зарабатывал ответами на графоманские рукописи. Меня любила институтская преподавательница Вера Смирнова, литературный критик — я занимался в ее семинаре, она тоже помогала с работой.
До 1955 г. вот так и пробавлялся. А в 1955 г. мне позвонили и пригласили в журнал "Пионер", заведующим отделом литературы. Уже то, что мне позвонили, а не я попросил, стало хорошим знаком.
— Когда Сергей Довлатов рассказывал по радио "Свобода" о своей работе в журнале "Костер", из редакции еженедельно, после каждой передачи, кого-то увольняли: героя очередного довлатовского сюжета. Вам дала что-нибудь работа в детском журнале?
— Я прошел там школу редактуры, узнал, как обращаться с художественным текстом изнутри. В "Литературку" в 1959 г. меня позвал Юрий Бондарев: ушел оттуда "знаменитый" Кочетов, его место занял Сергей Сергеевич Смирнов. Это воспринималось как явная либерализация. Я там проработал до 1964 г. Незадолго до снятия Хрущева ушел: был спецкором при секретариате, почти не печатался. Сняли к тому же помогавшего мне Косолапова. После публикации "Люди, годы, жизнь" – стали топтать Эренбурга. А я пытался писать о Гумилеве, Волошине, Цветаевой, Мандельштаме – хотел расширить круг современного чтения. Осмелел до того, что повесил на двери табличку: "Бенедикт Сарнов. Прием по вторникам и четвергам с 12 до 14". Иду как-то по коридору и встречаю Тертеряна: "Мы с главным редактором хотели записаться к вам на прием, но вас не было". Предложили покаяться, признать свои ошибки. В ту пору было так принято, а в моем случае и повод нашелся: как же, Илья Эренбург, "Люди, годы, жизнь". Я сказал секретарю парткома: "Вы члены партии, вы и извиняйтесь" и подал заявление об уходе. Был членом редколлегии на "Мосфильме" долгое время. Это была нештатная должность, она не требовала много времени. Лишь совсем короткое время я был штатным. Жить на вольных хлебах как-то удавалось.
Последняя точка — 1968 г., вторжение в Чехословакию. Стало неинтересно выступать в печати. Я пытался что-то делать, но понял, что писать с твердым расчетом на опубликование я не могу. Решение пришло такое: по одну сторону — то, что пишу для публикации, по другую — пишу для себя. Для себя написал о Мандельштаме, о Зощенко, даже без больших надежд вообще опубликовать, даже когда-либо.
Одно время мне пришлось для заработков заниматься переводами. Перевел по заказу "Политиздата" по подстрочникам для серии "Пламенные революционеры" несколько романов — грузинского писателя, дагестанского, еще кого-то. Занятная была работа, надо сказать. Один из этих сочинителей революционных романов эсера от меньшевика отличить не мог. Революционеры у него распевали песню "Тачанка-ростовчанка". Я говорю ему: "Послушайте, но ведь ее сочинили только в 1936 г.!" А он отвечает: "Это ваши русские дела, меня они не касаются". При этом местный колорит, национальные обычаи, многие местные исторические обстоятельства он передал не только точно, но и интересно.
А еще мы со Станиславом Рассадиным, с которым долгое время были дружны, более 20 лет вели регулярные радиопередачи по занимательному литературоведению. Потом эти радиопередач стали книгами: "По следам знакомых героев", "В стране литературных героев", "Рассказы о литературе" — две последние книги мы написали с Рассадиным вдвоем. Потом к этим книгам добавились "Прототип и литературный герой" — из серии рабочих тетрадей и уже готовая, но пока не вышедшая в свет книжка "Жизненный факт и художественный сюжет".
— Вы много занимались Михаилом Зощенко. В 1996 году исполнилось полвека со дня их с Ахматовой разгрома, со дня выхода в свет того самого постановления. Жив ли сегодня герой Зощенко?
— Жив ли герой Зощенко... С Зощенко связан один из последних моих редакторских опытов. Издательство "Смарт", впервые выпустившее в России двухтомник Абрама Терца, предложило мне подготовить к печати трехтомник Зощенко. На это у меня ушло довольно много времени, нужно было выверять разночтения в разных изданиях, просматривать периодику в поисках упущенных его произведений. Но "Смарт" слишком резко "финишировал" — распался, одним словом...
Но с Зощенко у меня не получилось еще в 60-е гг. В ту пору Плучек обратился к трем критикам — Лазареву, Станиславу Рассадину и ко мне — с просьбой написать для театра пьесу по рассказам Зощенко. Надо сказать, пьесы самого Зощенко воспринимаются неважно, поэтому мы должны были предложить какое-то свое решение. Мы придумали ревю с единым сюжетом, беря куски из рассказов. Получился театр абсурда — со своей внутренней логикой, но не отрывающийся от реальности. Не Кафка, не Ионеско, не Беккет, а узнаваемый абсурд нашей обыденной жизни. На нашу беду молодой Марк Захаров поставил в то время "Доходное место" Островского. Талантливая постановка, имевшая колоссальный успех. Какие аллюзии! Все говорили об этих аллюзиях. В такой ситуации Плучек понял, что о Зощенко не могло быть и речи. Договор у нас был с театром, у театра своих денег нет, деньги должно было нам заплатить министерство культуры, а оно, разумеется, не собиралось этого делать, ибо наша пьеса так и не была поставлена. "Подайте на нас в суд и получите деньги, — предложил Плучек единственный вариант. Мы не сразу, но решились на это. Сначала был суд районный, затем — городской. Адвокат пытался защищать театр, заявляя, что, к сожалению, "эпоха ушла", нэп ушел, советский человек необыкновенно вырос, а посему Зощенко — анахронизм, и нам платить ничего не следует.
Но тут наступила в заседании пауза, и в этой паузе мы стали свидетелями того, как слушалось другое дело, современное, но по духу — совершенно зощенковское. Начался типичный зощенковский сюжет, фантасмагория в зощенковском духе. Конечно, судившиеся персонажи не говорили "пущай", "завсегда". Один говорил: "Я тогда сдавал кандидатский минимум", другой — "Я тогда стоял в очереди на <<Фиат>>". Их лексика, их образовательный уровень по сравнению с зощенковскими персонажами изменились, достаток умножился. Они не будут говорить, подобно зощенковскому герою: "Вбил гвоздь для уюта", "на шпалеры разорился". Но внутри — все то же: пошлость.
Зощенко неслучайно считал себя подлинным пролетарским писателем. Он предсказывал: среда изменится — появится другой писатель, но исследующий того же люмпена. Сегодня именно этого героя исследуют Вячеслав Пьецух, Людмила Петрушевская, Юз Алешковский, Евгений Попов.
Кстати, неслучайно, что для разгрома выбрали именно Ахматову и Зощенко. После этого постановления начался зажим. Живые клеточки старой литературы были зажаты, зато расцвели Грибачев, Прилежаева, Мусатов – такой мрак, честно говоря, наступил.
Поневоле никуда от периодизации не денешься. Поэтический бум — период после Хрущева — некий зажим. Диссидентство, эмиграция — новые явления. И все закончилось с вторжением в Чехословакию.
— Разве не раньше? Разве не смещением Хрущева все закончилось, не сюжетом фильма "Серые волки"? А может, еще раньше: как опубликовали Солженицына, так и решили все закрыть?
— Пожалуй, нет. Публикация "Одного дня Ивана Денисовича" — это пик, после него надежды вполне сохранялись. Вспомните: хоть и зажали лагерную прозу, но появилась самобытная проза Искандера, еще трепыхался "Новый мир". Возникли и существовали Галич, Окуджава. А разве можно забыть первое появление Высоцкого?
Многие любили Андрея Вознесенского. У него замечательное зрение, метафорический склад мышления, он одаренный версификатор. У неискушенного читателя возникает ощущение, что он прикасается к чему-то возвышенному: "Какие сложные стихи, а я понимаю".
— А как вы расцениваете сегодняшний наплыв коммерческой литературы?
— Это дело простое: явление массовой культуры и паралитературы. На Западе это разделение давно произошло. Когда вернулся Сергей Прокофьев, ему кто-то сказал, дескать, вы, великий композитор, мало кому известны, а Покрасс, Дунаевский — всенародные кумиры, ужасная несправедливость! Он отреагировал вполне нормально: ведь это — разные профессии. Там разделение уже произошло. Есть массовая литература — есть и для высоколобых. Хейли — другая профессия. У нас это сейчас произошло. Коммерческий успех заслужили и Кабаков с его попыткой щекотать тщеславие массового читателя, и многократно переиздаваемый прекрасный писатель Довлатов. Довлатов в каком-то смысле нерусский писатель, даже в зримо реалистической "Зона". Цель свою он видел в том, чтобы доставить читателю удовольствие. Есть у него один рассказ про то, как его снимали в роли Петра I. В перерыве съемок в гриме, в царской одежде он вышел к пивному ларьку. И начинается спор. Один пьянчуга возмутился: "Царя здесь не было! Он здесь не стоял!" Другие бросились восстанавливать справедливость: "Нет, царь стоял! Я за царем!" Настоящее сюрреалистическое повествование: алкаши и забулдыги, стоящие в очереди к пивному ларьку, обсуждают, стоял ли с ними за пивом царь, и за кем именно он стоит!
Сродни этой была и установка Булгакова. Элемент беллетризма в творчестве Булгакова очень велик. Возьмем хотя бы "Мастера и Маргариту". Я помню, что когда мой сын был маленьким, я все время сокрушался: "Лежишь на диване и читаешь одну и ту же книгу — "Старика Хоттабыча". Одну и ту же книгу!". А когда он стал старше, то я его укорял: "Почему ты читаешь только <<Мастера и Маргариту>>?" И однажды это навело меня на мысль о родстве двух книг. Читатель наслаждается всевластием Воланда, как раньше, в детстве, наслаждался всевластием старика Хоттабыча. Эти переживания сродни друг другу. Как сладко знать, что в мире есть сила, которая говорит: все будет правильно, успокойтесь. Никакой катастрофы не произошло, так, как сейчас, было всегда. К тому же у Булгакова — замечательный дар беллетриста, дар красивого, изящного письма. Это не Андрей Платонов, читать которого — работа.
— И все-таки мы остаемся "самой читающей страной"?
— Тут происходит всякое. Когда-то Твардовский думал, что адресуется к людям, которые обычно стихов не читают. Но те, кто не читают — не читает вообще. Расширение читательской аудитории, обращение к широкому читателю, массовому читателю — было самообманом. Тот, кто понимал, что такое стихи, все равно принадлежал к узкому кругу. Иллюзия, что всем понятно. И философия романа «Мастер и Маргарита», и его глубинный смысл, и словесное мастерство, изыски — далеко не каждый читатель это оценит. Тут очень сложная вещь.
Мне Маршак рассказывал об одном своем разговоре с Пастернаком. Пастернак сказал как-то о "Петербурге" Белого: "Мы отняли у читателя поэзию, а теперь отнимаем прозу". Ведь даже "Доктор Живаго" задумывался как роман, нацеленный на успех у читателя. Отсюда в нем ходульные персонажи, опоэтизированная Лара, элементы массовой культуры. В Литинституте Федин вел семинар. Однажды входит и говорит: "Мы не будем заниматься обычными делами, я под сильным впечатлением: Пастернак читал главы из нового романа". Я так ждал этого романа! Пастернака интересовала природа успеха. Он прожил всю жизнь в башне: "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" Для Пастернака это даже не преувеличение.
В глубине души он завидовал Симонову, Федину, хотя сам был создателем новой, гениальной прозы — "Детство Люверс". Затворничество сослужило Пастернаку недобрую службу. Он поэтому и вступил в полемику с самим собой, написав "Цель творчества — самоотдача".
Взаимной была неприязнь у Пастернака и Гроссмана. Пастернак рассказывал как-то, что ему удаляют зубы, крайне болезненная манипуляция, и Гроссмана он читает с теми же ощущениями. Конечно, Гроссману удалось написать замечательную книгу "Жизнь и судьба", и все же помешала установка на Толстого.
— А разве это была прямо-таки специальная установка?
— Да, несомненно. Существует такая легенда. К нему однажды пришел художник, работавший над книгой Гроссмана. Уже тогда было ясно, что это эпопея, и художник спросил: "Как вы представляете себе всю эпопею?" Очевидно, ему это нужно было знать для того, чтобы сложилось единообразное оформление всей серии. В ответ Гроссман снял с полки четыре тома "Войны и мира" и сказал: "Примерно так". Как говорил Виктор Шкловский, "отметки нам ставят не за успехи, а за поведение".
— Говорят, вы долгое время дружили со Шкловским?
— Со Шкловским у нас были отношения учителя и ученика. Смолоду у меня был очень большой интерес к ЛЕФу, к ОПОЯЗу, Шкловский — это была моя любовь. Впрочем, однажды произошел скандал: мы втроем с Лазаревым и Рассадиным сочиняли пародии и сочинили пародию на Шкловского. Кончалась она: "Ромке Якобсону привет!" Мы не знали, что накануне произошел большой скандал: он ведь был великим грешником, первым покаялся в "формалистических ошибках", а потом послал свои книги Роману Якобсону, ставшему знаменитым американским славистом. Якобсон не принял этих книг, вернул. В нашей безобидной и добродушной пародии он увидел намек на эту историю, начал выкрикивать обидные слова: "Как сказал Блок Чуковскому, "не лезьте своими одесскими пальцами в нашу петербургскую боль!" Шкловский был очень вспыльчив. Сломанный был, конечно, человек. Он видел пару пустяков...
Я помню, мы сидели у них на даче. Зашла речь о Пастернаке, и он сказал: "С Борисом мы поступили неправильно". Дело в том, что когда сообщили о присуждении Пастернаку Нобелевской премии, они вместе с Сельвинским отбили ему из Ялты, где тогда отдыхали, восторженную поздравительную телеграмму. Потом появились официальные сообщения, в которых эта премия получила совершенно иную трактовку, и они состряпали разгромную статью и побежали в курортную газету, чтобы внести свою лепту. Сельвинский, как известно, даже этим не ограничился.
— Вам часто приходилось общаться с писателями, чьи судьбы были изломаны эпохой. Диссиденты – это определенная общность или люди схожих судеб?
— Есть люди с повышенным социальным инстинктом, социальным чувством неблагополучия. Это Ян Палах, сжегший себя в знак протеста против советской оккупации, Юрий Орлов, Сахаров, Буковский. Я дружил с "диссидентами поневоле" — писателями, которые уперлись в свое творчество.
Например, у Владимира Войновича случилось так, что в его "Избранное" не включили даже повесть "Хочу быть честным", которая была опубликована в "Новом мире". Он оказался перед дилеммой: либо читатель будет знать не того писателя, которым он является, либо Войнович сохраняет лицо, но остаются достоинство и благородство.
Другой случай — Искандер. Ему удалось опубликовать "Созвездие козлотура", талантливую, замечательную, яркую повесть. Но когда он увидел, что его главная работа "Сандро из Чегема" превращается в кастрированную вещь… Конечно, он долго удерживался от того, чтобы закинуть чепчик за мельницу, но все же вынужден был передать рукопись в американское издательство "Ардис", основанное покойным ныне Карлом Проффером.
Человека, который желал организовать себя как творческую, независимую личность, никакие сделки с властью не могли удовлетворить. Да что говорить, ведь даже Александра Альфредовича Бека власти умудрились превратить в диссидента. Прототипом его героя был Тевосян, и вдова "легла на рельсы", чтобы не пропустить роман, использовала связи с Косыгиным, Устиновым.
Было и бешенство тщеславия: например, Максимов. У него стремление опубликоваться на Западе обгоняло желание пробить произведение в нашей печати. Напишет вещь и объявляет:
— Я передам на Запад.
— Так ведь загонят за Можай.
— Ну и пусть.
— Сейчас почва для диссидентства разрушена?
— Для такого диссиденства, какое было раньше — да. Но опыт Сергея Ковалева показывает, что основа сохранилась. Хотя в литературе пока такой почвы нет, все барьеры сняты.
— Часто говорят о насаждаемом в современной культуре культе насилия. Вы разделяете эти соображения?
— Страхи относительно пропаганды насилия преувеличены. Свобода печати коснулась не только политических запретов — коснулась всего: ненормативной лексики, эротики, чернухи-порнухи. Люди кинулись жадно в эту сторону, с колоссальным перебором.
Эротика сейчас уже стала формальной, без мата тоже как бы нельзя. У Алешковского он звучал естественно, у Солженицына в Иване Денисовиче — тоже: "маслице-фуяслице". Так говорит весь народ. В "Марте Семнадцатого" — я читал его в Германии, мне дал на одну ночь знакомый славист — после объяснения Николая II появляется фраза "И государь облегчился", в смысле почувствовал облегчение, высказавшись и объяснившись. Но ведь фраза уже имеет один смысл. Солженицын же пытается предложить смысл иной. Что это, глухота? Или демонстративное: "Ваш язык — это ваш, я хочу вернуть ему первоначальный смысл".
— Почему же Солженицын не стал нравственным символом нации?
— Думаю, что он, конечно, претендовал на роль и политического лидера. Поэтому и написал программный документ — "Как нам обустроить Россию". Солженицын посетовал как-то, выступая по телевидению: издали 17-миллионым тиражом — и ничего! Никто не кинулся исполнять! Солженицын наивно предполагал, что "Архипелаг ГУЛАГ" произведет взрыв. Но "Архипелаг ГУЛАГ" придумал Дон Левин, была карта. В начале 50-х в США вышла книга Марголина "Путешествие в страну Зе-Ка", ставшая подлинным открытием.
Когда опубликовали "Архипелаг" у нас, на всех лотках уже были Бердяев, Мельгунов, Деникин, Савинков-Ропшин — словом, вся литература уже пошла. Печатались статьи в газетах о трагедиях в Куропатах, Катыни и т.д. В общем, Солженицын здорово опоздал со своим физическим возвращением.
Мы, люди прожившие все эти годы в этой стране, и то многого не поняли. А он в выступлениях проявляет беспомощность и невладение материалом. Солженицын и в нынешних рассказах лепит секретарей райкомов из банкиров и коммерсантов.
Сосредоточиться на нравственных категориях Солженицын не сумел: он скатился на быт, транспорт, "плохо топят", и все подобное — даже в выступлениях по телевизору. Разве люди ждали от него этого? И, что ни говорите, вся его идеология корреспондирует с протухшим национал-патриотизмом и даже национал-большевизмом: не случайно ему аплодировали в Думе и коммунисты и жириновцы.
Легковесные суждения: "Безмозглые реформы Гайдара". А ты что можешь предложить? Он рассказывал, что в лагере он и его друзья предполагали начинать с маленьких сапожных мастерских. Но какое сейчас может быть земство и какие сапожники? Дает зуботычину одному, затрещину другому. И при этом — ни слова осуждения по поводу бывшего друга Шафаревича. И его называют духовным лидером нации?
Сейчас вышла книга Солженицына "Бодался теленок с дубом". По-моему, наглядный пример того, как мессианство и идеология съедают художественный дар.
— Обрели люди новый социальный опыт?
— Да, обрели. Возвращения в прошлое люди не хотят. Даже те, кто потерял на этом в материальном смысле. Говорят, что Ильф и Петров издевались над интеллигентом, но над каким интеллигентом? Над Васисуалием Лоханкиным, у которого нет исторического мышления, нет понимания. Люди ведь размышляли в разное время, жили в разное время. Даже Мандельштам писал стихи о Сталине, но это была другая эпоха. Однако борцом со сталинской эпохой он не был. Платонов говорил, показывая на свою голову: "Сельсовет работает". Надо, чтобы работал все время.
Я написал книгу под условным названием "Опрокинутая купель". Она посвящена отношению к нашей культуре в целом и в том числе к школьному образованию. Длительное время идет переоценка всех ценностей, ценностей советских. Мне давно уже хотелось отмыть советскую литературу от вульгарной социологии. В свое время я уже схлопотал за это от Феликса Кузнецова, возглавлявшего московский союз писателей. Внутри каждого происходит переоценка. Нет писателя, которого бы не пытались низвергнуть. Такой же пересмотр идет и внутри художественного текста. Обломов — абсолютно положительный идеал, Чацкий — истеричный тип.
Поворот "все вдруг", на 180 градусов, меняются знаки, все происходит крайне уродливо. Раньше была своя шеренга корифеев-"колонновожатых", сейчас называются другие. Все остальное спускается в унитаз, даже писатели сложной судьбы – Горький, Маяковский. Происходит это и в узком кругу, и на поверхности. А ведь нужна тонкая, даже ювелирная работа, чтобы этот процесс отмывки, очищения писателя был убедительным, честным и серьезным. Цель своей книги я вижу именно в этом. Есть и полемическая статья о Пушкине, о современном пушкиноведении. Раньше Пушкин был безусловным декабристом, теперь – "слуга царю, отец солдатам", если и написал "Гаврилиаду", то "бесконечно ее стыдился". Один — Непомнящий — представляет его православным великомучеником, другой доходит до обвинений Пушкина в безвкусице, отсутствии слуха...
— Может быть, это следствие того, что образование постепенно деградирует?
— Я бы так не сказал. Последующие поколения как раз становятся образованнее, образование не теряется. Для поколения моего сына норма — иностранный язык, функциональная грамотность.
Моему внуку 12 лет. Стараюсь подсовывать ему какие-то книги. Но он принадлежит к особому поколению. Его интересует только компьютер. Иногда он что-то читает и получает от чтения удовольствие, но больше интересуется курсом доллара. Сын тоже всегда интересовался: "Что ты пишешь? Что написал?" А внук еще добавляет: "Дед, а сколько тебе заплатят?" Занимается английским и немецким. Их учат – чего совершенно не было в моем детстве – умению работать со словарем, находить, скажем, синонимы для какого-то слова, чувствовать стилистическую разницу. Это очень хорошо: живые задания, учат самостоятельно искать. Спросит что-нибудь, ответ уже наготове: "Ты же не маленький – ищи по словарям".
Компьютером, разумеется, владеет лучше меня. Открыть—закрыть файл — запросто. Если сравнить внука и сына в его нынешнем возрасте — внук образован тщательнее. Но сын был более начитанным, библиофагом. Внуку школа дает больше: все-таки спецшкола с двумя языками.
— Может быть, изменилось понятие грамотности?
— Конечно, но огорчает нелюбовь к книге.
апрель 1996