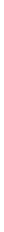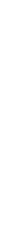Русский писатель всегда, во все времена, во всех конфликтах власти с униженными и оскорбленными, вставал на сторону последних. Но только Анатолию Приставкину выпала удивительная возможность защищать людей не перед властью, а получив от этой власти полномочия: он возглавил Комиссию по помилованию при Президенте РФ[1].
— Каким образом бывший член редколлегии “Молодой гвардии” возглавил через много лет журнал “Апрель”?
— Когда молодая проза начиналась и в литературу входили такие люди, как Аксенов, Амлинский, Войнович, Казаков, целая группа замечательных писателей, то каждый входил через свой журнал. Моим журналом была “Юность”. Но в ту пору предприняли попытку оживить “Молодую гвардию”, и в связи с ней меня, Анфиногенова, Амлинского и еще несколько молодых писателей включили в редколлегию журнала “Молодой гвардии”.
Мы не отказались от этого предложения, полагая, что таким образом будем активно влиять на ход литературного процесса. Например, Амлинский стал заведовать отделом прозы, а я — только членом редколлегии. Печатался очень интересный волжский писатель Витя Ильин. Анатолий Рекемчук был зам. главного редактора. В общем, вполне достойные люди, которые выделялись новизной прозы, желанием сказать свое слово, слово шестидесятников, пришедших после консервативной прозы, которую мы тогда уже отвергали. Естественно, как только наши взгляды вошли в конфликт с новым направлением журнала, мы расстались. После ухода Олега Смирнова, работавшего главным редактором, появился новый редактор, кто-то пришел еще, и мы оттуда ушли. Но ведь я продолжал печататься не только там. В “Молодой гвардии” у меня вышли только рассказик и небольшая повесть, а больше всего публикаций в “Юности”.
А движение “Апрель” — это, скорее, движение не за новую литературу, а за преображение Союза писателей, который себя к тому времени изжил и нам всем был чужд.
С того момента, когда убежал в Англию Анатолий Кузнецов, мой друг, и когда меня со всех трибун проклинали и на 10 лет отрезали от литературы 1968--1978 гг., я жил ремонтом электроприборов. Союз не только не протянул мне руку помощи, но, наоборот, поддержал эти гонения.
Я не был официально включен ни в одну поездку, не то что за границу, но даже по республикам, по регионам. Это была привилегия секретарей Союза и тех шестерок, которые крутились рядом.
Впрочем, я не претендовал ни на что: были свои друзья, были свои точки опоры. Поддерживали друзья из Воркуты, города в прошлом жесткого и кровавого. Валентин Гринер, уехавший в затем Израиль, пригласил меня: “Поживешь в гостиничке, отдохнешь, попишешь, поездишь по шахтам, если захочешь”. Там я написал маленькую книжечку “Горючий камень”, сделал телепередачу “Шахта Северная”. Повесть “Солдат и мальчик” тоже наполовину написана в Воркуте.
Впрочем, друзей у меня было много: в Прибалтике, в других местах. Отщепенство, неучастие в делах Союза привело к решению на волне каких-то событий организоваться и выступить против Союза официально. Тогда и возник “Апрель”. Один из зачинателей — покойный ныне Анатолий Злобин, человек идей. Потом Булат Окуджава, Алла Латынина, у меня в архиве есть фотография “Первые апрелевцы”. “Апрель” объединил около 1000 человек. Сыграл очень мощную роль. Были даже заявления от классиков, которые вскоре ушли из жизни.
Дима Крылов снял в ЦДЛ первое заседание. У меня сохранились эти кадры. Я тогда, может быть, первый из русских писателей произнес имя Солженицына. Процитировал его. Но когда мой доклад печатали, то упоминание это выбросили. Цензура была уже не устная, но еще письменная. Я тогда очень активно включился в общественную работу.
Много позже оказалось, что наше первое заседание транслировали по какой-то особой внутренней связи, и в кабинете Михалкова Сергей Владимирович и Верченко внимательно вслушивались в наши голоса и запоминали.
— А как вы это узнали?
— Мне это рассказал Верченко.
Кстати, когда были события в Сумгаите — тут же включалось телевидение. “Апрель” тогда проводил собрания, мы находили свидетелей, людей из Сумгаита, очевидцев. Тут же шли комментарии известных писателей, их правдивые отзывы о происходившем. Словом, “Апрель” считался в то время важной частью перестройки.
В августе 1991 г. именно “апрелевцы” — Евтушенко, Айтматов — с ними были и другие люди — вошли в кабинет, где заседал старый писательский секретариат, и переизбрали его.
— Как же получилось так, что ваши надежды не оправдались?
— Я не считаю, что надежды не оправдались. “Апрель” сыграл свою позитивную роль. Например, в 1991 г. “Апрель” заседал, а потом пошел к Белому Дому. “Свобода” тут же транслировала через микрофоны Марка Дейча наше заседание в пустынном зале Союза писателей. Вы, наверное, имеете в виду ощущение общеполитического кризиса?
— И это тоже. Нет ли у вас ощущения, что вновь возникает давление на писателей?
— На меня как на писателя никто не давит. Цензуры на меня нет. А раньше? Раньше у меня не было ни одной книги, которая бы вышла сразу. “Солдат и мальчик” 10 лет пролежала, "Ночевала тучка золотая”-- 7--8 лет и т.д. Сейчас я могу написать что-нибудь и предложить, и опубликовано это будет по законам рыночной экономики.
После периода увлечения детективами и эротическими книжками издательства снова повернулись к литературе. Другое дело, что на эти деньги прожить нельзя. Но можно ли было прожить на литературные заработки в то время, когда ты пишешь, а тебя не печатают? Я, к примеру, ремонтировал кастрюли, чтобы кормить семью. Я считаю, что и сейчас ничего страшного не происходит. Общество развивается неровно и сложно — так и должно быть в посткоммунистической России, — но оно не стоит на месте. Я могу сравнить, поскольку старше вас. Могу, например, судить о разнице идеологических и прочих структур.
Может быть, жить стало труднее, мы не были готовы к рыночной экономике, мы потеряли структуры, поддерживавшие творческих людей, потеряли дома творчества, но за свободу надо платить. То, что мы пережили, я бы не хотел второй раз пережить.
Меня приводит в ужас мысль, что какие-нибудь Зюгановы придут к власти и объявят новую монополию на печать, на идеологию, на творчество, на мозги, введут новую цензуру. Ведь раньше запреты были не на то, что мы пишем, а на то, что мы думаем. Это сначала говорили, что ты пишешь не так, на самом деле подразумевалось, что ты думаешь не так. Цензура была только частью идеологии, мышление человек извращалось. Начинается извращение мысли — и это самое, поскольку извращенное слово вело к извращенным действиям. Всякий раз у себя обнаруживаешь какую-нибудь тенденцию, обращенную назад. Очень хорошо, что у нас в комиссии был христианский философ Владимир Ильич Илюшенко — замечательный человек, который руководит Обществом Меня. У него есть великолепная статья по поводу цензуры, он приносил мне ее почитать, а также несколько прекрасных работ социально-идеологического плана — о фашизме, о еврействе и природе антисемитизма. Так вот, он в работе о цензуре доказывает, что цензура была только частью идеологии, которая должна была извратить мышление человека, и это удалось сделать. Даже самые умные люди начинали если не делать, то говорить иначе. Илюшенко же говорит, что в России, где слово всегда много значило, извращенное слово вело к извращенным действиям, событиям. Таким образом, люди влияли на происходившие события, извращая сами события.
— Какое произведение вы считаете для себя этапным, таким, после которого вы можете сказать, что состоялись как писатель?
— У каждого писателя есть логика творчества. По ней тема, в которой я состоялся, это дети в разных состояниях тоталитарной системы, войны и сталинизма. Первые рассказы 50--60-х гг. назывались “Трудное детство” и соответственно были посвящены трудностям войны. Они до сих пор по календарям разбросаны, встречаются в разных детских “Книгах для чтения”. Паузы мне были нужны, для того чтобы набраться сил. Для меня память реальнее самой действительности. Вспоминайте тут Флобера: “Давайте поговорим о реальности, т.е. о мадам Бовари”. Я и пишу при огромном напряжении памяти. Через 10 лет после этих рассказов я написал повесть “Солдат и мальчик”, где я ставил проблемы взаимной моральной ответственности. Для меня это очень серьезная и очень важная работа. В ней рассказывается, как мальчик обокрал солдата, с винтовкой отпущенного в отпуск. Затем они случайно встречаются, когда солдат решает покончить собой, поскольку без винтовки он становится дезертиром. Солдат нечаянно прикасается к мальчику, и между ними возникают невероятно интересные отношения: мальчик помогает найти винтовку, а солдат оказывается для него единственно близким человеком. Они становятся родными на всю жизнь. За мальчиком охотится шайка, которую он выдал, чтобы найти оружие. Потом солдата берут в штрафной батальон, словом, счастливы они лишь ту неделю, пока были вместе. Больше того, там тоже вывернуто: солдат — это мальчик, а мальчик становится другом для юного солдата. И вот между ними завязываются отношения милосердия. У солдата любовь появляется в тылу, у мальчика — отношения с бывшей бандой, которая за ним охотится. Их конец предопределен трагической завязкой. Трагическая история двух людей, брошенных в черноту нашего мира. Эта повесть очень важна была для меня. Она получила и читательскую, и критическую оценку, много раз издавалась.
Здесь было переосмысление той же темы: трагедия людей в черных тылах войны. Война — столь важный для меня кусок жизни, что я всегда говорю: моя жизнь состоит из трех частей. Довоенная — это когда я маму потерял, жили мы очень тяжело, в коммуналке.
Потом была война — главный кусок моей жизни, хотя она была всего лишь четыре с половиной года, срок, казалось бы, по длительности со всей жизнью не сравнимый. Но это был главный кусок — от моих 10 лет до 14 с половиной.
— А дальше?
— А дальше я доживал. Жил эмоционально тем, что уже пережил раньше. Я все пережил за четыре с половиной года. Это для военных война — день за три дня. Для меня война — это день за год. Целую жизнь прожил за войну. Я видел насилие, был в шайке. Меня сажали, я голодал, умирал, погибал, т.е. я все пережил за те годы, и если бы я попытался все это описать, мне нужно было бы еще две-три жизни.
Через 10 лет после “Солдата и мальчика” я пишу повесть “Ночевала тучка золотая”. Она — из головы, документов у меня не было ни одного. Когда режиссер снимал фильм, он нашел все упоминавшиеся географические точки. Память оказалась прочнее, чем можно было думать.
Вообще, в книге зашифровано очень многое из того, что некоторые даже не знают. Эта книга не о Чечне — она о насилии и о братстве, о том, что заповедь “Человек человеку брат” живет, особенно в детях, в неиспорченных, которые могут многому научить взрослых, все время воюющих людей.
Человек человеку брат. Мне важно было христианские мотивы провести. Там проходит через повесть: один брат погибает — улетает и возвращается в образе чеченского мальчика. В книге я делаю так, что оба они уезжают в неизвестность. А в фильме их разделяют. Еще я написал пьесу, которая шла в рязанском театре. Кстати, у немцев она хорошо прошла. Там двое военный и штатский — ведут допрос. Вся пьеса — допросы этих мальчиков. И в конце, когда они говорят о дружбе, один уводит чеченского мальчика вправо, другой русского — влево. “Мы навсегда с тобой!” — а их ведут и ведут. Слова одни — действие другое. В общем, две трактовки, и вторая трактовка, наверное, точнее. Мир разделяет людей. И чеченские, и наши мальчики стреляли друг в друга, несмотря на то, что и те и другие читали мою повесть.
— А я, когда смотрел фильм по вашей повести, которую прочитал раньше, думал: “Вот прочли бы эту повесть побольше людей — и война была бы покороче”.
— Нет. Не влияет литература на судьбы людей. Опосредованно разве что. Она влияет только на души. Недавно я приехал из Чечни. Там меня сопровождал боевик. Он оказался моим читателем. И он стрелял. Но когда приступом брали вокзал — это самое страшное было время в Чечне: заперли целую группу танков — он лично спас 16 русских ребят. Увез к себе в деревню и там отпустил. И дружит он. Вот это, может быть, влияние литературы. А не то, что Грачев прочитал, и война прекратилась. Те, кто решает судьбы народов, они литературы не читают. Если они что-то и читают, то воинские уставы, в крайнем случае. Писателю повлиять на исход войны невозможно. И когда брали Грозный, то там трижды за ночь шел мой фильм. Наши атаковали, а по чеченскому телевидению, уже наполовину разбитому, шла моя картина. Три раза! Всю ночь! Когда я там был, все время задавал вопрос: “Почему шел именно этот фильм?” Перед телевизионной камерой все по-разному отвечали. Я полагал, что фильм прежде всего о братстве. А чеченцы говорили: “Там еще есть, когда вагонами выселяют. Мы напоминали людям, что их ждет”. И все же, как ни трактуй, все это — против насилия.
Не могу пожаловаться, повесть эта оказалась популярной. Четыре миллиона суммарный тираж. Переведена она на основные европейские языки, а также на китайский, индийский, корейский, японский... Только на русском — около 10 изданий, причем есть издания и по полмиллиона. Сейчас такие тиражи уже невозможны.
— У вас есть человек, который занимается вашими издательскими делами?
— Нет. Сам отвечаю на предложения и сам подписываю договора. В прежнее время меня ВААП обмануло, продав в 10 стран мою повесть и заработав 100 тысяч долларов, 94 процента ушло в налог. Мне достались 6 тысяч долларов, которые выдавали по 300 долларов в течение многих лет. Когда я пытался возмутиться, мне объяснили, что могли и все 100% уйти в налог. До 60% забирает государство, до 40% — ВААП. “А автору?” — спрашиваю.
“Автору — 1 — 2 процента. Вам еще шесть дали”.
На фильме я тоже ничего не заработал. Его снимала коммерческая фирма “Ладья”, которая продает фильм за рубежом. Договор был еще советский, и моих серьезных гонораров там не предусмотрено.
Так что “Ночевала тучка золотая” меня не озолотила. Правда, когда ее начали издавать в последнее время в еще не охваченных нескольких странах, то я лично заключил договор, оговаривая в нем возможность поехать на премьеру. И таким образом я поездил, поездил благодаря книжке, а не союзу нашему.
А через 10 лет вышли “Кукушата”, которых я больше всего люблю. Они мало оценены у нас. Немцы дали национальную премию по литературе. Это — мое несчастное дитя. Главная тема здесь — уничтожение детей, конкретно — уничтожают в ней детей знаменитых родителей. Насилие над детьми — это то, с чем я никогда не смирюсь.
А теперь, выходит, я вовсе и не борюсь с врагами, а сам враг, потому что сын врага! И кукушата, как и остальные, из “спеца”, враги, потому что они дети неизвестных никому врагов, про которых мне вдалбливала моя Маша.
Я еще подумал, что если есть дети врагов, то должны быть и жены, и племянники, и двоюродные сестры врагов, а может быть, и отцы, и матери врагов. Всего этого я не смог представить. Ведь известно же, что люди, что кругом живут, кому-нибудь да кем-нибудь приходятся. И если бы у меня на самом деле была бы тетка, а у нее дети, то эти дети как двоюродные мне сестры и братья стали бы врагами лишь потому, что мой отец тоже был врагом. А если бы у них, когда они подрастут, появились дети, то и они тоже должны быть врагами, и так без конца. И выходило, что сплошь все, кто бы нам ни встретился, а может, вообще все в Советском Союзе — одни враги! Разве так может быть?
“Кукушата”
Ни “Тучку”, ни “Кукушат” целиком читать я не могу. Дома мне не разрешают их читать. Дохожу до десятой страницы — и все, взрываюсь слезами, так что знаю их только по рассказам других. Эти две вещи для меня запретные. Когда сценарий надо было делать, жена помогала: и перечитывала, и цитаты выковыривала. И потом — обобщающий мою жизнь роман “Рязанка”. “Рязанка” — это путеводитель по другим моим произведениям. Герои те же, факты иногда повторяются. Не то чтобы я исчерпал эту тему, скорее, я исчерпал душевные силы, чтобы к ней возвращаться.
Есть еще множество моментов моей жизни, которые можно было бы описать. Например, как мою жизнь проиграли в карты. Это была очень серьезная угроза. Но я уже не могу, нет сил и времени нет.
— Вот при таком душевном напряжении вы все-таки взваливаете на себя чужую боль и становитесь председателем Комиссии по помилованию при Президенте России.
— А это продолжение работы. Вы взываете о милосердии других народов, детям, униженных, обездоленных. Ко мне явился во сне Господь Бог. Вручает ключи от тюрьмы, где сидят миллионы людей, среди них — приговоренные к смертной казни. И тогда начинается: да, у меня много ненаписанных произведений, у меня нетленка, мне не много осталось жить, у меня маленький ребенок. Все понятно. Но почему Чехов с туберкулезом поехал на Сахалин? Вы помните хоть одного каторжанина, которому он спас жизнь? Кому какое дело до каторжан, которых спас Чехов? Но ведь это настоящий нравственный подвиг, без которого у вас не было бы полного понимания судьбы и творчества Чехова. Есть критики, которые говорят, что писатель воплощает свою нравственность в произведениях, а в жизни он может быть любым. А у меня своя теория: писатель должен быть последовательно нравственным, одинаковым в жизни и в литературе. И если ты хочешь быть милосердным — будь им. Сам Бог сажает тебя на место чиновника. Можно человека пожалеть, и твоя жалость — не абстрактная. Она тут же реализуется в формальных правительственных делах. Сегодня мы решаем, и завтра осужденный оказывается на свободе.
— То есть решение комиссии по помилованию окончательное и обязательное для исполнения?
— Нет, окончательное лишь решение президента, но пока мы у него работаем, он к нам прислушивается, значит, это решение, действенное на 100%.
— У вас были случаи, когда ваша комиссия рекомендовала одно, а решение президента было иным?
— Были. В том случае, когда тот или иной консультант так или иначе представлял наше предложение. От консультантов все же многое зависит.. Президентская администрация обычно нас слушала. Но в течение двух лет войны в Чечне, новая администрация Егорова не слышала нас. Но мы могли не подавать президенту на смертную казнь, и тогда ему просто нечего было подписывать.
— То есть просто рассматривали, рассматривали и рассматривали дела?
— Да нет, все проще. У нас ведь нет никакого плана. Мы можем в год по одному делу рассматривать, а можем и по двести. Когда мы видим, что наши предложения начинают отклонять, мы просто перестаем ему подавать. Прокуратура тогда на нас катит бочку. Появляются заказные статьи, но ведь без толку: мы работаем. Да, мы так работаем. Разогнать нас можно. Но на это власть пока не идет. Ведь это общественный скандал! Попробуй прогнать Булата Окуджаву и сказать, что ты не так работаешь. Это вообще единственная писательская группа, которая рядом с правительством. Это уникальный феномен! Когда Господь Бог группе писателей, общественных деятелей, где священник отец Александр, где журналистка Женя Альбац, где политкаторжанин писатель Лев Разгон, где один из лучших психологов Михаил Коченов, христианский философ Илюшенко, литературовед с мировым именем профессор Мариэтта Чудакова, и т.д. И эти люди ради милосердия могут служить бесплатно. Пять лет они еженедельно читают толстенные тома, по сто с лишним уголовных дел, и решают судьбы людей! Это могут только люди, которые не потеряли совести, которые хорошо понимают, что их служба стране — не в лозунгах и не в абстрактных заседаниях, а в конкретных делах. Такой комиссии не было никогда, а если ее разгонят, то уже и не будет. Эта комиссия действительно авторитетна и действительно неподкупна. И она, следует сказать, президентскими структурами, несмотря на разных людей (кроме Егорова, конечно) и сейчас оберегается.
Работу в комиссии я расцениваю как продолжение своей литературной работы. Толстой занимался общественными делами, Достоевский, Лесков, Чехов... Люди столовые организовывали, помогали чумным и холерным. Это в традициях русской литературы милосердной, гуманистической, призывающей помогать обездоленным, несчастным, отверженным. Все это — мои болевые точки.
— Не могли бы вы рассказать о программе “Дети Чечни”?
— Я почти пробил через один религиозный фонд в Германии какие-то деньги на гуманитарную помощь детям. Не на одежду, а на тетрадки, на учебники, на школьные принадлежности, даже на зарплату учителям, которые будут с ними работать. Мне по силам осуществить связь между богатой Германией и несчастной, нищей Чечней. Это моя серьезная задача. Я посещал семьи, разговаривал с детьми, был у женщины, которая организовала домашний детдом. Ей нелегко приходится. По телевизору о ней говорят в радостно-оптимистических тонах, а женщине всего один раз помогли, хотя детей у нее дома уже около тридцати. Люди помогают: кто что принесет. У нас было с собой 200 с чем-то долларов — отдали ей, сами без денег остались.
Есть силы, очень большие, которые пытаются ее вместе с детьми выселить из этой квартиры. Тогда она просто на улице окажется.
Один врач в Германии собрал экспозицию рисунков чеченских детей. Мы открывали выставку с Сергеем Ковалевым. Этот врач организовал госпиталь в Чечне, где лежали дети. Они рисовали на врачебных бланках. Он вывез эти бланки в Германию.
“Фонд помощи искусству и литературе в Чечне и Ингушетии” дает возможность через него помогать детям.
Я противник смертной казни, но голосовал несколько раз за смертную казнь маньякам, убивавших детей. Мой союзник в этом — Миттеран. Материалы о преступлениях против детей ему не подавали по его просьбе, как я недавно узнал.
Меня Бог послал, чтобы я миловал. Но был вот такой случай. Обращается уже трижды женщина. Она была с людьми, которые уморили девочку. Издевались над ней три часа, пока не уморили. Ниночка ее звали. Сажали ее на горящую плиту, потом выбрасывали на мороз, топили в корыте, подвешивали... Нормальному человеку невозможно представить себе, что они с ней делали. Я говорю, а говорить не могу нормально. Начинаю нервничать, простите. Муж этой женщины, по всей вероятности, за свое преступление казнен сокамерниками. Написано: “Умер в 30-летнем возрасте”. Отсидела почти весь срок женщина, но комиссия все равно отклоняет прошение. Хотя если подходить по-христиански, то это ненормально. У нее еще двое других детей, которые просят за мать, им тяжело живется без нее, голодно, сиротами они остались...
— Может, для них лучше быть сиротами при таких родителях?
— Они ведь любят свою маму. Маму любят, и все. Я сам понимаю, что несправедливо, но голосую против того, чтобы ее миловать. Единогласие бывает, но редко. Ну, и маньяки — я тоже обычно голосую за их казнь. Эти люди — не от Бога, а от дьявола. Их надо, наверное, уничтожать. Они не люди, конечно, даже не животные.
— А были голоса за помилование Чикатило?
— Конечно. За Чикатило тоже были люди, которые говорили, что необходимо его помиловать. Эти люди — принципиальные противники смертной казни. По их мнению, лучше держать таких людей в клетке взаперти, но сберечь их. А я, видимо, не очень принципиальный. Хотя и борюсь за полную отмену смертной казни.
Говорят, что у нас до 30% приговоров к высшей мере наказания связаны с судебными ошибками. На Западе-- 10--15 %, а у нас — до 30%. После отмены смертной казни мы будем гарантированы от повторения таких трагических ошибок.
— В “Лексиконе русской литературы” Вольфганга Казака написано, что главная ваша книга — “Городок”.
— Нет. “Городок” — это роман о человеке, который хочет построить свой дом, единственный и неповторимый, подобно Джеку Лондону с его “волчьим логовом”. И вот он строит этот дом, вопреки системе, вопреки власти, и когда он, наконец, его достраивает, его заставляют снести дом и тем самым себя уничтожить. Для меня этот роман был настолько важен, что я поехал в Сибирь и сперва сам построил дом. Правда, не один, у меня сил бы не хватило, а с одним опытным строителем. Вообще-то у меня отец три дома сам построил, собирая строительные материалы только со свалок. Отец мой вообще все умел: капусту квасить, дома строить, скважины бурить, асфальтировать. Его пытались уличить в воровстве стройматериалов: квитанций-то у отца не было. Заставляли разрушить собственный дом. Во всяком случае, он как-то противостоял этой власти своей личной жизнью. С ним всю жизнь боролись недоброжелатели и завистники, а для меня отец был в жизни образцом поведения настоящего мужчины, солдата, хозяина. В наших экономических условиях он бы состоялся как крепкий хозяин. Он нам с сестрой оставил в наследство 500 веников для бани, которыми торговал в конце жизни.
“Вор-городок” вырос из наблюдения за жизнью случайных “внецензурных” селений. Позже оказалось, что таких селений в Советском Союзе около сотни. И на севере оказались такие городки, и в Средней Азии, и на востоке, и в Сибири, где люди хотели по-другому жить. Первый толчок к написанию этого романа дал полет на вертолете санитарной авиации. Я летел в Кару из Воркуты, и во время полета у предгорья уральских гор я вдруг увидел серые бараки на снегу. Мне объяснили, что это бывшие ГУЛАГИ, где живут отверженные. Они никому не подчиняются. Живут более свободной жизнью. Живут как им хочется. Приходят раз в полгода, приносят соленую рыбу, берут соль-сахар и уходят обратно. У них даже паспортов нет. Они не умеют жить иначе и не хотят, не желают возвращаться в рабство. Они не подчинены никакой администрации. А потом я и под Саратовом такой городок нашел, кстати, он назывался “Вор-городок”. И я назвал так свой роман, а они стащили у меня из названия “вора”, когда печатали роман в “Новом мире”.
Я люблю этот роман, хотя он немного в стороне от главной моей линии. Впрочем, тема дома ведь тоже моя. Вот был такой случай. Пришла ко мне в Германии одна журналистка, и я ей сказал: “Пока не поедите моего борща, не буду давать интервью”. Она поела, завела разговор о борще, а потом опубликовала материал под названием “Кухня писателя”. Я ей рассказал, как надо мочить яблоки, как варить варенье, как я придумал варить с помощью кипятильника. Ведь два чурбачка и два куска металла — это и есть кипятильник. Я ведь электрик по образованию. Кстати, вчера я потряс свою жену тем, что при помощи отвертки и молотка починил компьютер.
“Все что могли одни руки сделать, могут и другие сделать” — эта формула Петрова-Водкина — моя формула. Тема дома, мелодия дома для меня очень важна. Для меня, детдомовца, особенно важна. Одного из моих героев, Ваську, солдат приводит в свой дом, и Васька восхищается: “Имел бы я такой дом, заколотил бы двери, лазил бы только в окна и никому не давал бы вылизывать мою посуду”.
— Как и где вы получили образование?
— Как у Хрущева — высшее без среднего. В войну я учился в школе. У меня была очень хорошая память. Если я попадал в школу хотя бы на неделю, то мог быстро нагнать всех учеников. Любой текст мог через полчаса прочитать наизусть. Приезжает как-то комиссия, и мне говорят: “Шолохова надо прочесть”. Я взял книгу, и через полчаса пришел с выученным фрагментом. Тогда-то и нужно было учить какой-нибудь язык, не блатной. А сейчас я уже не могу выучить никакого языка. Хорошая память мне помогала нагонять отставание.
Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко...
Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей: если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!
“Ночевала тучка золотая”
Я бродяжничал всю войну. Попадал в школу в мае. В войну я не потерял ни одного класса, хотя последовательных знаний у меня, конечно, не было. Но, например, греческую мифологию я невероятно полюбил.
Когда война закончилась, я получил аттестат об окончании 7 класса. Потом был авиационный техникум в Жуковском, затем работа, армия. В армии стал преподавателем по электротехнике.
А потом поступил в Литературный институт — послал туда стихи. В ту пору я писал стихи часто.
— А сейчас?
— Это сложный вопрос. Иногда приходится, хотя несколько лет назад — гораздо чаще. Мелодии я сочинял, исполнял с эстрады под гармошку свои песни, некоторые до сих пор поют в армии.
В Литературном институте я занимался в семинаре Льва Ошанина. Институт мне удалось закончить с отличием, несмотря на дикое образование. Спал тогда по 3 часа, заболел туберкулезом. Всего лишь двое с нашего курса тогда получили дипломы с отличием. В библиотеках приходилось сидеть по 6, по 8 часов. Они скажут: “Ренуар” (а ведь я не знал, кто это такой) — бегу, выискиваю, Гумилев — то же самое. Многим сокурсникам это легко давалось, мне же приходилось через пять барьеров перепрыгивать. Окончил институт и уехал строить Братскую ГЭС.
— Как вы относитесь к “оттепели”, к эпохе, сменившей “оттепель”, к течению шестидесятников? Многие считают именно оттепель самой светлой эпохой послевоенной литературы, а мне кажется, что нынешнее время, когда решает — хотя не всегда справедливо — рынок, для литератора более подходящее.
— Пожалуй, соглашусь с вами. Тогда была эпоха некоего возрожденческого варианта: не тепло, а оттепель. Попытка после жестких морозов и жесткой цензуры что-то сделать самостоятельно. Нам показалось, что мы можем высказываться свободнее, чем прежде. Однако и в хрущевские времена творилось немыслимое: и аресты были, и цензура лютовала, и исключали, и процессы над писателями начались. Не забудьте: при Хрущеве вновь стали расстреливать за экономические преступления. Так что не стоит хрущевское время идеализировать. Да и шестидесятничество не было единым. Никогда ни с кем не смыкался Юрий Казаков, такой тонкий, бунинский, или Георгий Семенов. Его однофамилец Юлиан Семенов относился совсем к другой категории — категории предприимчивых молодых ребят. Словом, разные это были люди, шестидесятники. Видимо, в 30--50-е гг. слишком много культура накопила энергии, и вот вся эта энергия выплеснулась.
Булгаков, Ахматова, Платонов, прекрасный Гроссман — эта линия литературы не прерывается, вертикальная линия, не горизонтальная. Мы и считали себя продолжателями именно этой линии. А потом, ведь в годы нашей учебы возвращались люди из лагерей — Ярослав Смеляков тогда пришел, — и мы впитывали их рассказы. Мы хотели попасть в ту струю, но очень скоро в ней захлебнулись. И вот одним пришлось уехать на Запад, другие, как Эмка Коржавин, оказались в ссылке, иные замолкали, нас отключали от жизни, так что система срабатывала.
Но вот главное, что всего превыше, мы нужны друг другу. И это может случиться только в нашем, открытом всему миру возрасте, вчера познакомились, а сегодня едем обнявшись и приникаем друг к другу, как самая близкая родня, и знаем, и верим, что мы уже на всю жизнь вместе, вечные друзья. Никогда мы друг с другом не расстанемся, ни‑ког‑да, до самой смерти!
Расстались, конечно.
“Рязанка”
— Как вы тогда отнеслись к появлению новой волны русской эмиграции?
— В эмиграции оказалось много моих друзей. “Тучки” уж точно не было бы без Копелева. Мне повезло жить в одном доме с ним и с Раисой Орловой, я дружил с ними. Уехал Коржавин, с которым я тогда общался, туда уехал Вася Аксенов, уехал Толя Гладилин, с которым я переписываюсь и общаюсь, когда бываю в Париже. Это часть моей жизни, часть моей души, осколки того мира — какое еще может быть к ним отношение. Русская литература — это континент. Поэтому и журнал был так назван. Литература едина. Горенштейн здесь был моим любимым писателем и там остается им. Виктор Некрасов был здесь прекрасным писателем и таковым остался. А что, я Бунина должен разделять? Может быть, за границей ему и труднее писалось, но “Темные аллеи” нисколько не хуже того, что было написано в России, “Деревни”, например. Есть Бунин, и все.
— А как вы относитесь к самому термину “советская литература”?
— Она была, существовала. Так она называлась. Наверное, к той эпохе подобное название вполне применимо. Творчество Трифонова в свое время было открытием, прорывом среди определенного рода литературы. Прорывом в личную жизнь, в необычную, почти бытовую, но очень глубоко осмысленную частную жизнь. Глубоко затаенную, зажатую в условиях той системы частную жизнь человека. Не говорю про “Старик” и “Жажда”. У нас были добрые отношения с Трифоновым.
— Мне кажется, что Трифонов дошел до той черты, за которой уже начиналось диссидентство.
— Вообще-то, литературе удавалось сказать многое. Разве “В окопах Сталинграда” не было такой эмоционально открытой, сильной, мощной вещью? А Казакевич, Шукшин? Несмотря на идеологический пресс, литературе удавалось сказать многое. Вырабатывался другой язык, антицензурный, но выход обнаруживался. Трифонов — один из нескольких, не единственный.
Это принцип творчества: пробиваться, несмотря ни на какое давление!
[1] Ныне Комиссия реорганизована. Рассмотрение ходатайств о помиловании передано в регионы. После реорганизации Комиссии А. Приставкин стал советником Президента РФ.
октябрь 1996