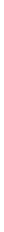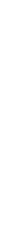Е.А.ЛЯЦКИЙ.
РОМАН И ЖИЗНЬ. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И.А.ГОНЧАРОВА
(Прага, 1925)
… Это была типичная старинная книга, конечно, в кожаном переплете, с модной застежкой, одна из тех многочисленных и, к сожалению, исчезающих семейных книг, значение которых начинает выясняться в наше время, и место которых уже не в редеющих дворянских усадьбах, а в музеях. В музее сибирской архивной комиссии хранится и «Летописец» Гончаровых.
Дед Гончарова проходил служилую дворянскую карьеру, о которой в «Летописце» имеются характерные записи под 1742 г. «Пожалован я из полковых писарей во аудиторы 1738 г. июня 28 дня, а из аудиторов в поручики 1742 г. марта 18 дня и поручицкий патент дан от военной коллегии июля 16 числа 1743 г., за подписями господ фельдмаршала князя Долгорукова, генерал-майора Ивана Козлова и секретаря Стефана Тарасова, и за государственной печатью, под № в военной коллегии 476, в коллегии иностранных дел 866». В 1745 г. И. И. Гончаров был пожалован капитаном, в 1746 - к капитанскому чину был получен патент... Дальнейших сведений о служебной карьере нет, но параллельно идут записи о многочисленных рождениях и смертях во младенчестве детей. В 1754 г. родился отец писателя, Александр Иванович, о котором сведений сохранилось очень немного. Он был женат дважды. Первая жена его, Елизавета Александровна, умерла в декабре 1803 г., а в сентябре 1804 г. Александр Иванович женился на Авдотье Матвеевне Шахториной, от которой 6 июня 1812 г. родился будущий писатель Иван Александрович. До него родилась и вскоре умерла дочь Елена, затем сын Николай, бывший впоследствии учителем сибирской гимназии, и дочь Мария, скончавшаяся младенцем; моложе Ивана Александровича были: Александра (впоследствии по мужу Кирмалова) и Анна (по мужу Музалевская) Александровны. Александр Иванович умер 10 сентября 1819 г.
Из этих и из других сведений, заключающихся в «Летописце», видно, что уже дед нашего писателя принадлежал не столько к купечеству, сколько к кругу служилого дворянства. Состоя на военной службе в оренбургском крае при Иване Ивановиче Неплюеве; он из полковых писарей дослужился до офицерских чинов - поручика и капитана. По характеру записей видно, что был человек, интересовавшийся явлениями природы и общественной жизнью, религиозный и начитанный в духовной литературе, Феодора Федоровна была второю женою Ивана Ивановича, который после ее смерти был женат еще один раз. Таковы краткие сведения о роде Гончаровых. Иван Александрович, как было выше упомянуто, родился 6 июня 1812 г. Постараемся возможно отчетливее представить Себе ту обстановку, где родился и провел детство Гончаров. Это была обстановка приволья и свободы купеческо-помещичьей жизни первых десятилетий прошлого века, но без причуд и родовитой опеки крепостного дворянства. У Гончаровых была целая деревня, настоящая деревенская усадьба в городе: дом - полная чаша, дворы, амбары, людская, погреба, ледники со всевозможными запасами, обширная дворня, полное хозяйство, - словом, всем и каждому в этой семье жилось привольно и сытно, и самое крепостное право, благодаря влиянию города и общему мирному настроенью, теряло свой мрачный колорит. Во всяком случае, оно не оставило в душе мальчика тех острых и жгучих впечатлений, какими судьба так щедро наградила, например, Тургенева.
Не трудно заметить, что к подобной же обстановке, мягкой, усыпляющей, нисходят корнями своими и все близкое (и даже очень) родственники Гончарова - Сашенька Адуев, Ильюша Обломов, Борис Райский. Молодой Адуев, переживая, как впоследствии Гончаров, первые впечатления провинциала в Петербурге, с отрадой вспоминает «свой город», домики с остроконечными крышами, палисаднички, голубятни, домики-фонари, домики с флигелями, будками, - этот весь спрятался в зелени; тот обернулся на улицу задом, а тут на две версты тянется забор, из-за которого выглядывают с деревьев румяные яблоки, - искушение мальчишек. Присутственные места - так и видно, что присутственные места: близко без надобности никто не подходит... А пройдешь там, в городе, две, три улицы, уж и чуешь вольный воздух; начинаются плетни, за ними - огороды, а там и чистое поле с яровым. А тишина, а неподвижность, а скука - и на улице, и в людях тот же благодатный застой. И все живут вольно, нараспашку, никому не Тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам, козы и коровы щиплют траву, ребятишки пускают Змей»...
В том же виде застает «свой город» и Гончаров, когда приезжает, по окончании университетского курса, на родину. Те же дома и домишки, палисадники, заборы, присутственные места. Ребятишки, если не пускают Змей, то «среди улицы располагаются играть в бабки». У забора - коза, одна из тех, которых видел Адуев, - щиплет траву...
Приезжает в тот же город и студент Райский. Дом его - тоже «маленькое имение», у самого города, с превосходными видами на Заволжье и страшным обрывом, куда, между прочим, не пускали в детстве и Ильюшу Обломова. «Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке откуда его увезли в детстве, и где потом он гостил мальчиком иногда, в летние каникулы! Какие виды кругом - каждое окно в доме было рамой своей особенной картины! С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем; с другой - широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купанья, пробегает по телу дрожь бодрости». В этом эдеме, как в «Грачах» Адуева, в «Обломовке», наконец, в усадьбе Гончаровых, - на первом плане - хозяйство, козы, куры, повара, дворня, «баловство», которое охватывает юношей, «как паром» - сладкой негой внимательности и ухода. «Кроме семьи, старые слуги, с нянькой во главе, смотрят в глаза, припоминают мои вкусы, привычки, - где стоял мой письменный стол, на каком кресле я всегда сидел, как постлать мне постель. Повар припоминает мои любимые блюда - и все не наглядятся на меня».
Это говорит Гончаров о своем возвращении на родину из столицы. Но таково же было и его детство, рассказанное в «Обломове»; няня, упомянутая выше, была та же самая няня, которая смотрела за маленьким Обломовым и не пускала его в овраг и на галерею, как не пускали и Гончарова лазить по деревьям, по крышам или взбираться на колокольню.
Гончаров был в детстве, по его же словам, зоркий и впечатлительный ребенок. У него тогда уже, среди этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, зарождалось неясное представление об «обломовщине». Столь же зорким, ничего не пропускающим» и впечатлительным ребенком был Ильюшка Обломов: «ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей». Ни одна черта, ни одна особенность не ускользает и от наблюдательного взора Райского; по тому, как он ведет себя в школе и относится к объяснениям учителя, можно с уверенностью сказать, что его наблюдательность, в связи с некоторой не то рассеянностью, не то распущенностью талантливого барчука, развилась под знойными лучами обломовского солнца, под стук ножей обломовской кухни. Дома, в Обломовке, он оставил няню, Захарку, Антипа, Аверку (Акимку-повара - в <Воспоминаниях»), Арапку, которых он в точности изучил и запомнил; в школе он тем же переимчивым взором наблюдает учеников и учителя. «И доску, на которой пишут задачи, заметил, даже мел и тряпку, которою стирают с доски. Кстати, тут же представил и себя, как он сидит, какое у него должно быть лицо, что другим приходит на ум, когда они глядят на него, каким он им представляется».
Кроме Обломовки, в городе Гончарову была знакома Обломовка-деревня. Обломовка романа принадлежала, рассказывает автор, издавна роду Обломовых; рядом с ней лежало сельцо Верхлево, которым владел богатый помещик, никогда не показывавшийся в свое имение. В этом имении управляющим был немец Штольц, открывший у себя пансион для обучения детей окрестных помещиков. Мы можем дать более определенные сведения об этом имении - оно находилось на правом берегу Волги и принадлежало княгине Хованской.
Там существовал и пансион, куда был отдан маленькой Гончаров, но учил в нем не немец Штольц, а священник Троицкий, воспитанник казанской академии человек просвещенный и, можно думать, широко образованный; немцу Штольцу соответствовала немка (по девической фамилии Лицман), жена священника, учившая детей немецкому и французскому языку. И маленькой Обломов, и Райский немногому научились в этой школе; едва ли многому научился в ней и Гончаров, хотя он и относился к воспоминаниям о ней с видимой симпатией. «В этом оригинальном пансион Иван Александрович выучился французскому и немецкому языку, - читаем мы в воспоминаниях, Потанина, - а главное - нашел у «батюшки» библиотеку и принялся опять читать усердно. В библиотеке батюшки было все: «Путешествие Кука» и «Сатиры» Нахимова, Паллас и «Саксонский разбойник», Ломоносов и «Бова-королевич», Державин и «Еруслан Лазаревич», Фонвизин, Тассо и детские рассказы Беркеня, Карамзин и мрачные подземелья Ратклиф, история Ролленя, «Ключ к таинствам древней магии» Эккартсгаузена - все это было прочтено восьмидесятилетним Гончаровым».
Священник княжеского имения напоминает верхлевского старика Штольца. «Немец был человек дельный и строгий, как почти все немцы. Может быть, у него Ильюша и успел бы выучиться чему-нибудь хорошенько, если б Обломовка была верстах в пятистах от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы простиралось и на Верхлево, ум и сердце Ильюши исполнились картин и нравов этого быта прежде, чем он увидел первую книгу. И не одного Ильюши, - таков же был и сам Гончаров: эти картины и нравы окрасят собою все творчество будущего писателя и определят его наиболее положительные жизненные — если не идеалы и стремления, - то привычки и вкусы.
Впоследствии, уже на склоне лет, писатель даст себе отчет в этих впечатлениях, когда выразить, в своих воспоминаниях, веское предположение о том, что у него, «очень зоркого и впечатлительного мальчика, уже тогда, при виде всех этих фигур (Якубова и соседей-помещиков), этого беззаботного житья-бытья, безделья и лежанья, и зародилось неясное представление об обломовщине».
В воспоминаниях этих будет много искренности и теплоты. Нежностью признательности и любовью откликнется душа Гончарова на любовь и ласку, испытанные в раннем детстве, всякий раз, как память воскресит перед ним образ его покойной матери. Она была разумно строга и добра, по отзыву писателя, и последнее свойство, синоним безграничной материнской любви, станет исчерпывающим и неизменным признаком, как только Гончаров приступить к изображению личности матери в семейной обстановке героев.
Слепая, беззаветная, бесконечно-нежная любовь - коренная черта в отношениях матерей Александра Адуева и Ильи Ильича, сближающая образы этих женщин до полного совпадения. Воспоминания о матери являются у них наиболее трогательными и заветными, проникнутыми грустью сожаления о невозвратной утрате. Переходя во второй период сознательной жизни, когда впереди слышатся шорохи прозаической старости, а позади остаются раскаяния и разочарования, Александр Адуев мысленно пробегает свое детство и юношество до поездки в Петербург, вспоминает, как ребенком он повторял за матерью молитвы, и она твердила ему об ангеле-хранителе, который стоит на страже души человеческой и вечно враждует с нечистым... Указывая на звезды, она говорила мальчику, что это - очи Божиих ангелов, которые смотрят на мир и считают добрая и злые дела людей; небожители плачут, когда злых дел окажется больше, чем добрых, и радуются, если добрые возьмут перевес. Показывая на синеву дальнего горизонта, она говорила, что это Сион... Милая, наивная вера, трогательные суеверия детских образов - в них было много теплоты и поэзии, и Александр, с искренним вздохом, посылает привет этими воскресшим отзвукам прошлого.
Вспоминает молитвы с матерью и Илья Ильич Обломов. Тогда, поглощенный детскими мыслями о предстоящей прогулке, он «рассеянно» и «вяло» повторял слова молитвы, но мать «влагала в них всю душу», и эти детские впечатления не прошли бесследно. «Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жарко» любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы». Нежным чувством проникнуты и воспоминания Райского о матери, но в них нет уже этой непосредственности и жизненности, как в Обломове.
Иван Александрович не ушел далеко от своих предков в этом отношении, а все Гончаровы были очень религиозны, - у некоторых членов их рода религиозность доходила до мании. Таков был брат писателя, вынесший эту черту, несомненно» из родительского дома и впоследствии развивший ее до крайности. Сын его, Александр Николаевич, с ужасом вспоминал хождения по церквам после систематических субботних порок и пинки в поощрение молитвенного усердия. Отец Ивана Александровича был очень благочестив и слыл в городе «старовером». В доме находили приют юродивые; стекались и множились рассказы о святых местах, чудесах, исцелениях. В комнате у матери, Авдотьи Матвеевны, был большой киот, перед которым горела синяя лампадка. «Из старого гончаровского наследства, - рассказывал Александр Николаевич, - всем нам досталось по два, по три образа. Я получил два образа, из которых один - образ Спасителя, в тяжелой позолоченной ризе. У Ивана Александровича, на Моховой, в задней комнате также было несколько образов из старого гончаровского дома».
Стало быть, и эта семейная черта - религиозность, по крайней мере, в ее внешних проявлениях, не прошла не отмеченной в творчестве художника-Гончарова и повела к созданию страниц, проникнутых грезами благоговейного умиления из золотого царства детских снов.
Происхождение этой черты в творчестве понятно. Религиозность была одним из первых внушений, воспринимавшихся детским сердцем в атмосфере гончаровского дома. В это чувство влагалась любовь к Богу за те блага, который дарил он миру в пределах гончаровского кругозора, и страх перед неведомой громадной жизнью, которая была за этими пределами и казалась наполненной суеверными призраками ужасами и чудесами. «Населилось воображенье мальчика странными призраками; боязнь и тоска засели надолго, может быть навсегда, в душу. Он печально озирается вокруг и все видит в жизни бред, беду, все мечтает о той волшебной стороне, где нет зла, хлопот, печалей, где живет Милитриса Кирибитьевна, где так хорошо кормят и одевают даром...»
Школа должна была наполнить душу иным содержанием, уложить религиозный порыв в иное извилистое русло и изгнать из представления о жизни те страхи и призраки, которые туманили детскую голову легендой и сказкой. Для нашего писателя решительный поворот в этом направлении наступил с того дня, когда он был отдан в московский коммерческий пансион. В семейном «Летописце» оказалась по этому поводу следующая запись, сделанная рукою Авдотьи Матвеевны: «1822 года, поля 8 числа, отправлен Ванечка в Москву, а определился в коммерческое училище августа 6 дня». Но религиозное чувство он сохранил навсегда. По словам его племянника, Николая Гончарова, «религиозные воззрения его сложились под влиянием домашней, «византийской» обстановки и взглядов его матери Авдотьи Матвеевны. Эту религию он и сохранил до конца своей жизни»...
глава XXIV.
«Обломов». - Двойственность в изображении Ильи Ильича. - Автобиографические черты. - Домашний уклад, неподвижность, апатия. - Вялая обыденность жизни в представлении Гончарова. - Кругосветное путешествие, как средство скрасить действительность.
На сходство автора с Ильей Ильичем Обломовым указывалось с давних пор, еще при жизни Гончарова.
Рассказывают, что у него самого однажды вырвалось признание в этом смысле. Дело было около 1883 г., когда Гончаров как-то сидел у книгопродавца Вольфа и выслушивал упреки последнего в том, что он медлит с новыми изданиями своих сочинений, которые быстро расходились.
«Должен вам сказать, Иван Александрович, - заметил книгопродавец, - что вы - настоящий Обломов, какого вы описали...
Гончаров минуту помолчал, затем, пристально заглянув Вольфу в лицо, сказал: «Да вы совершенно правы... Я - Обломов, и Обломов это - я. Вы не ошибаетесь. С себя я и рисовал Обломова...»
Этот рассказ носит, конечно, анекдотический характер. Вообще же Гончаров избегал высказываться определенно по этому поводу. Он замечал только иногда сам, что читатели не раз старались «подводить» его то под одного, то под другого из его героев, отыскивая его личные черты в созданных им типах и угадывая в них тех или других лиц. «Чаще всего, - говорил он, - меня видят в Обломов, любезно упрекая за мою авторскую лень и говоря, что я это лицо писал с себя. Иногда же, напротив, затруднялись, куда меня девать в каком-нибудь романе, например, в дядю или племянника в «Обыкновенной истории».
Однажды, впрочем, в письме к Д. Л. Кирмаловой, в начале 60-х годов, Гончаров заявил о себе вполне определенно; там, где требовалось строгое исполнение служебного долга и трудолюбие, он был прямая противоположность своему герою. «Работа поглощает меня всего, - писал он, - а это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьего дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня ничего, или что ожидал всего кроме трудолюбия, считая меня за Обломова»...
Несколько далее, характеризуя процесс своей творческой работы в прошлом, когда он писал то, что, казалось ему, носилось около него в воздухе и было далеко от «выдумки», он приводил любопытный пример близости к нему создававшихся образов. «Мне, - говорил он, - прежде всего, бросался в глаза ленивый образ Обломов - в себе и в других - и все ярче и ярче выступал передо мной. Конечно, я инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека - и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру».
Роман «Обломов» писался, тоже по обыкновению Гончарова, очень долго - лет одиннадцать, с перерывами для «Фрегата Паллада», с отвлечениями в сторону «Обрыва», образы которого уже начинали тревожить творческую впечатлительность писателя в 1849 г., когда он ездил на Волгу повидаться с родными. Не говоря уже о том, что во втором романе обнаружилось значительно большее мастерство кисти художника и более глубокая вдумчивость в построении романа и обрисовке центральной фигуры, самое отношение Гончарова к своему герою должно было измениться с годами, и оно, действительно, изменилось. В этом отношении нам придется несколько разойтись с тем общераспространенным мнением, что Обломов ближе других героев подходит к самому Гончарову. Если бы это было действительно так, Гончаров не относился бы к нему с таким неизменным чувством иронии, какого, например, у него вовсе нет, как только речь заходит о Петре Ивановиче Адуеве или Штольце. В этой иронии нет злости, нет и оттенка желчи и раздражения, порождающего сарказм. Напротив, добродушное, даже любовное отношение придает ей особую задушевность и прелесть. Так пожилой и ласковый по натуре человек снисходительно улыбается слабостям своего младшего приятеля, слабостям, которые далеко не чужды и ему самому. И эта улыбка так искренна, так непосредственна на устах Гончарова, что читатель невольно поддается ее обаянию, и сам начинает улыбаться тою же снисходительной и доброй улыбкой.
Мы отметили - в характеристике Обломова не мало автобиографических черт. Их не трудно подметить в истории детства Обломова, в отдельных частностях, несомненно, и в обрисовке характера, со слабостью волевого элемента на первом плане и с сильно развитым сознанием, внешним и внутренним, доводящим иногда процесс самоанализа до глубокого и истинного страдания. Но от Обломова до Гончарова - расстояние гораздо большее, чем от обоих Адуевых. Кстати сказать, Илья Ильич первой половины романа отличается, на наш взгляд, от Ильи Ильича второй половины. Это два типа, равно свойственные русской жизни, близко родственные, но не вполне одинаковые. Первый - с несомненным трагическим началом сознания своего бессилия - так и умирает, не сделав ничего полезного и высокого в жизни, к чему стремился так пламенно, но - увы! - платонически; его тревога не утихает с годами, - она может перейти в тихую жалобу, в покаяние Рудина, но ни на минуту не станет пошлой и плоской. Сильное возбуждение, страсть, негодование могут воспламенить их пожаром, правда, на одно мгновенье, но в это мгновенье они могут явиться героями, способными пожертвовать собой, во имя идеи или за улыбку красавицы, смотря по моменту. Вторая категория Обломовых - иного свойства. Если у них и было какое-либо миросозерцание, в смысле известных «умственных» идей и нравственных требований, то это миросозерцание уснуло у них раньше, чем глаза успели заплыть жиром от вечного спанья и в груди появилась одышка от неподвижной жизни. Проза будничной домашней жизни, низменность желаний, не выходящих из круга инстинктов пищеварения и элементарного животного довольства - вот атмосфера, из которой никогда не вытащат их на свет Божий никакие Штольцы и Ольги Ильинские. Пошляки Маниловы - их ближайшие родственники, если они одарены благожелательно-настроенной душой, но никак не «коптители неба» Тентетниковы, всю жизнь собирающиеся заняться большим сочинением о России, словно Обломов в первой части романа со своим грандиозным планом переустройства Обломовки.
Кроме общей медлительности и лени, общей вялости, мы не видим у Обломова крупных черт, роднящих этот образ с самим Гончаровым. На присутствие этих черт в характере нашего писателя указывают его же собственные слова - там, где он довольно недвусмысленно рисует свою собственную наружность. В детстве он - здоровый, краснощекий мальчик «с мечтательными глазами», как Ильюша Обломов; студентом - цветущий, жизнерадостный юноша; ко времени трезвости и благоразумия - он, как две капли воды, напоминает остепенившегося Александра Адуева, с брюшком и плешью, с начинающейся сединой в висках и бакенбардах. Пройдет еще несколько лет, и Гончаров, дописывая последние строки в «Обломове», такими штрихами очертить свой автопортрет: «литератор, полный, с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами». Этот отзыв напомнить собою «пожилого беллетриста Скудельникова» (в «Литературном вечере»), который «как сел, так и не пошевелился в кресле, как будто прирос или заснул. Изредка он поднимал апатичные глаза на автора (читавшего свой роман) и опять опускал их. Он, по-видимому, был равнодушен и к этому чтению, и к литературе - вообще ко всему вокруг себя. Григорий Петрович (Уранов, хозяин) вытащил его из его гнезда, обещал хороший роман, хорошее общество, хороших, даже прекрасных, дам и хороший ужин. Он и приехал».
Последние слова чрезвычайно важны, пожалуй, важнее самого портрета. В них выразились основные привычки и вкусы «пожилого беллетриста». Он не прочь бывать в обществе, но предпочитает и тишину своего <гнезда». Общество он посещает только избранное, где может встретить, как художник, красоту и грацию аристократического женского лица, услышать остроумную беседу и веселый смех; как гастроном и бывший обломовец, он оценить по достоинству тонкий ужин и хорошее вино. Но, вообще говоря, к людям его не особенно тянет. И, переживая в том кругу, где он бывал, привычные и милые сердцу ощущения, он сам не вносил в общество ни веселья, ни даже оживления, хотя ни в уме, ни в остроумии ему отказать было нельзя. Он, как художник, накапливал впечатленья, но расточал их в разговор не охотно и скупо.
В общем представлении жизнь казалась Гончарову вялою и скучною. Уезжая из усадьбы, Райской собирается написать роман - картину вялого сна, вялой жизни. Изображение зевоты и мечтательной задумчивости встречается у него так же часто, как изображение еды и сна.
Часы еды и сна являются священными для Гончарова при всех положениях, в которые он ставить своих героев. Даже более: отношением к этим благам жизни характеризуются у них душевные состояния, причем Гончаров нигде не упускает случая отметить значение тонкого обеда или ужина, присутствие или отсутствие аппетита у того или другого героя, благодетельное влияние сна или бессонницу. Райский волнуется по поводу Веры, раздумывая, от кого она получила другое, загадочное, письмо, и волнение это выражается у него в том, что он «машинально обедал»; страницей ниже Гончаров отмечает по тому же поводу, что Райский «ночью не спал, мало ел и даже похудел немного». Волнение редко, впрочем, отзывается у Райского бессонницей; обыкновенно сон не покидает его, в качестве «друга», в самые тяжелые минуты, навещает и днем после обеда, и Райский спит долго и крепко. Вернувшись на рассвете домой после страшной драмы, разыгравшейся у обрыва, Райской до того был измучен, что сам не узнал себя в зеркале. «Ему было не легче Веры», и он наверно бы заболел, если бы его не выручил спасительный сон. Райский отдался ему, как «здравому другу, поручая себя его попечениям. И сон исполнил эту обязанность»... «Ему снилось все другое, противоположное»... <...Приснилось ему, что он сидит с приятелями у Сент-Жоржа и с аппетитом ест и пьет, рассказывает и слушает пошлый вздор, обыкновенно рассказываемый на холостых обедах, что ему от этого стало тяжело и скучно, и во сне даже спать захотелось. И он спал здоровым, прозаическим сном»... Вера, душу которой «раздирает» страсть к Марку, неизменно появляется перед читателями в часы еды и чая. «Она, поздоровавшись с бабушкой, попросила кофе, с аппетитом съела несколько сухарей»... «...Прошло два дня. По утрам Райский не видал почти Веру наедине. Она приходила обедать, пила вечером вместе со всеми чай, говорила об обыкновенных предметах, иногда только казалась утомленной». Но, какая бы драмы ни разыгрывались в душе героев, какая бы страсти ни волновали их, обычный ход жизни не нарушался, - «в доме у Татьяны Марковны все шло своим порядком, отужинали и сидели в зале, позевывая»... Негодующее или разгневанное сердце бабушки успокаивалось сразу, как только виновные выражали желание позавтракать или пообедать; в таких случаях она готова была примириться даже с безобразником Марком. Эта бытовая черта проходит по всем романам Гончарова. Влюбленный Александр Адуев приходит к дяде сообщить ему о своем намерении вызвать на дуэль соперника, графа Новинского, у него «дело идет о жизни и смерти», а Петр Иванович предлагает ему поужинать, - «ужин не портит дела» - и ужинает, на протяжении нескольких страниц, пока Александр, который «не ужинал двое суток», рассказывает ему обстоятельства своего трагического положения.
Остановимся еще на одной черте - апатии, неизменно появляющейся, как только Гончаров начинает говорить о самом себе. По отношению к человеку, неустанно работавшему в тиши кабинета над созданием ряда произведений, техника которых, по его собственным словам, стоила ему большого труда, это слово должно иметь особый, условный смысл. Это менее всего - внутреннее разочарование в том, во что верилось в юности, в идеалах, надеждах, наконец, любви и дружбе. Наоборот, мощью здорового идеализма звучать последние произведения Гончарова; ласковый юмор их достигает местами удивительной свежести, изящества и даже глубины.
(С.62-65, С.186-191)