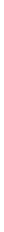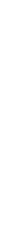Оцуп Н. М.А. ШОЛОХОВ// Грани. 1956. – № 30. С. 136-146.
М.А.Шолохов
Редакция «Граней» просила меня написать статью о Шолохове. Я принял это предложение с чувствами противоречивыми: ведь я – эмигрант, а он — коммунист. Что может быть между нами общего? Не меньше и не больше того, что есть общего между двумя Россиями, из которых одна: Россия на Западе, другая: Россия в Советском Союзе. То, что мы оба писатели, отражающие и выражающие жизнь и себя по-разному и в очень несходных условиях, тоже нас, разделяя, сближает.
Писать о Шолохове. Не значит ли это писать о литературе в Советском Союзе? Не у него ли, в самом деле, больше чем у кого бы то ни было права ее представлять? Отчего же, радуясь поводу приветствовать настоящего и большого поэта (проза и поэзия для меня одно), я не могу отделаться от чувства грусти.
Читал я его речь на ХХ съезде коммунистической партии. Он говорит правду, но не всю. И он не может этого не знать. Не то и не так Шолохов должен был бы ответить Хрущеву на его недоумение, почему в Советском Союзе литература оторвана от жизни.
Сказал он много полезного и верного о работе писателя. Прописные истины не мешает иногда повторять, и за то, что Шолохов напоминает о нашем праве длительно вынашивать свое будущее произведение, какой же поэт не ответит ему благодарностью. Но он молчит о главном. О чем? О том, что и его партия, как бы ему она ни была дорога, не может быть музой поэта: власть предержащая для этой роли не годится. Поэзия и свобода — синонимы.
Когда Хрущев бросил советским литераторам вызов, в душе не один из них наверно ответил: но как же не быть оторванными от жизни, если мы не можем на нее влиять с полной свободой, с правом ошибаться, но ни у кого не спрашивая разрешения на это. В положении Шолохова находились многие русские писатели. Самого Пушкина подозревали в угодничестве перед властью, и он имел право ответить:
Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю…
Конечно, и Шолохов вправе верить, что его партия «вдруг оживила Россию – войной, надеждами, трудами». Но Николай Первый музой Пушкина не был, а Шолохов сам признает, что партия им руководит.
Кое в чем я иду дальше Шолохова: например, я готов признать, что патетическая и трагическая советская действительность интереснее, чем литература о ней. Для оживления этой литературы Шолохов советует отправлять писателей на места: в колхозы, на заводы и т.д., чтобы они создавали новые книги, живя
137
среди будущих своих персонажей. Но всё это лекарства для наружного употребления. Не может он не знать, что болезнь – внутри. И неужели какая-то смесь репортажа и фотографий с натуры может заменить то, с чего начинается настоящее творчество (это не очень скромное слово заимствую из шолоховского словаря). Он сам на это слово имеет право, но и он вряд ли решился бы ответить на такие примерно вопросы:
Отчего в Советском Союзе нельзя достать целого ряда иностранных и русских книг, отчего академик Герасимов, говоря о живописи, отрицает право художника искать новых путей, отбрасывает весь победный опыт модернизма, заявляет, что Россия в живописи вовсе не бесспорная величина, что ей надо учиться - что в новой живописи какой-нибудь Сутин, выходец из России, только в школе Запада стал одним из крупнейших художников нашего времени.
Помнит ли Шолохов предостережение Хомякова, которого уж никто не заподозрит в отсутствии патриотизма, предостережение, брошенное им России, могучей, победной и прочая и прочая, предостережение, которое насколько же праведнее и смелее, чем опьянение мощью армии, науки, искусства:
— Всем этим прахом не гордись!
Хомяков имел смелость призывать Россию к покаянию, к признанию своих грехов. Неужели же Россия вдруг и в самом деле стала безгрешной под водительством коммунистической партии. Ведь додумалась же она, партия, до признания ошибок самого Сталина. Если же она права в своем новом отношении к «великому, непогрешимому», если коммунисты признают даже «фальсификацию истории за последние тридцать лет», значит, ошибались они, а не мы. Наверно теперь кто-нибудь пишет оду на развенчание Сталина. Печально всё это.
Есть Россия Курбского и Герцена!
Иван Грозный был великим царем, но русская история пошла и за Курбским. Ей нужны были разоблачения эмигранта, который не мог открыть рот в своей стране. Николая Первого признал (не без оговорок) никогда не лицемеривший Пушкин, свободолюбивый Владимир Соловьев высоко оценил, сдираясь назад, усилие этого самодержца, но обличитель Герцен от этого не менее праведен.
Где же теперь обличители? Жалкая, в чужих странах ютящаяся эмиграция, не продолжает ли дело Курбского и Герцена? Наш протест звучит в подсознании огромного числа людей в Советском Союзе. И кто знает, нет ли и нашей заслуги в той перемене курса советской политики, которой ее руководители так гордятся, которая, конечно же, еще ничего общего не имеет с идеалами того же Герцена, революционера и писателя, понявшего, что свобода России есть свобода каждого русского гражданина.
Приблизительно за две недели до выступления Шолохова на съезде коммунистической партии пришлось говорить и мне перед французами, говорящими по-русски (их с каждым годом всё больше, и многие прекрасно знают русский язык и культуру) и перед русскими здесь в Париже. В советской России говорят о социалистическом реализме, и там считают, что этот термин определяет литературу, близкую задачам партии. Мой доклад был посвящен персонализму. Я скажу о нем только несколько слов. Термин этот, не новый для философов и социологов (Ренувье, Бердяев, Мунье, Лосский и другие противопоставляют персонализм индивидуализму и тоталитаризму), как будто ни разу еще всерьез не применялся к вопросам литературы, а между тем продуктивность его именно сейчас бесспорна. Исключительность всего, что произошло после 1921 года, связанные таинственным решением судьбы почти одновременно погибли Блок и Гумилев, исключительность всего, что выпало на долю русских в России
138
и в эмиграции, как и вообще всех людей на земле, эти даже признаки начала новой эры не только вещественно, но и символически связанной с распадом, все это уже существенно изменяло требования акмеизма, который, кстати сказать, никогда не пытался изолировать поэта в истории его дней, а только отрицал возможность отражать современность, не ища в ее глубине ее истоков. Ведь и у Пушкина была нередко обратная мимика. Говоря о поэтах:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв, —
сам-то он не забывал ни на минуту, где, с кем, в какой стране, за что и с какими жертвами надо бороться. Пушкин творил историю, как она творила его. Пушкин, это воплощение свободы, автор стихов до последней степени искренних и откровенных и дневникового Евгения Онегина — первый в России персоналист. Здесь я не могу подробно это доказывать, как сделал я это в моем докладе. Здесь я могу только поставить вопрос: если свободный Пушкин — образчик персонализма, возможен ли этот персонализм в Советском Союзе? Во всей полноте этого слова, конечно, нет. Но это не значит, что у самых подлинных писателей советских нет проникновения в судьбу человека в мире и даже в мироздании, что не всегда легко для поэтов, признавших чье бы то ни было право направлять и контролировать вдохновение, по самой природе своей враждебное контролю извне. Среди этих избранных одно из первых мест у Шолохова.
«Тихий Дон» обратил на автора этого труда внимание, всего культурного мира. Стало небезразличным для многих, кто этот новый писатель, когда и где печатался, где родился и т. д. Сейчас любая книга, посвященная советской литературе, дает подробный ответ на эти вопросы . Отметим лишь несколько дат в биографии Шолохова: родился в 1905 году. Пишет с 1923 г. В 1926 г. начал писать «Тихий Дон». В 1940-ом году вышла последняя, четвертая книга этого романа. С 1932-го года Шолохов — член коммунистической партии, с 1939-го — действительный член Академии наук, В 1930-ом г. им начата работа над романом «Поднятая целина». В 1942 г. им написан очерк «Наука ненависти». Писатель очень популярен. Станица, где он живет, — место некоего паломничества. С мнением его считаются руководители партии. «Тихий Дон» переведен на много языков. Что сказать об этой вещи, главном произведении Шолохова? Не могу и здесь обойтись без лирического отступления.
Впервые попали мне в руки первые книги этого романа в Италии в итальянском переводе, вскоре после освобождения страны от немцев. С каким волнением, с какой радостью знакомился я с новым писателем, как нетерпеливо ждал еще не переведенного четвертого тома! Прочесть его пришлось уже в Париже по-русски. Тогда невольно стал я сравнивать впечатление от итальянского перевода и русского подлинника. Оно было в пользу подлинника. Это ведь не всегда бывает даже с вещами, по справедливости известными. Так, например, «Леонардо да Винчи» Мережковского не хуже звучит по-итальянски, чем по-русски. Объясняется это вероятно тем, что переводчик сумел пересказать эту часть три
139
логии, посвященную одному из величайших гениев человечества, близким Леонардо старинным языком Флоренции, так что отдельные места романа стали более магическими, когда итальянская речь заменила русскую. С Шолоховым этого произойти не могло. Его язык, богатый провинциализмами, связан, как растение с почвой, с речевыми особенностями России. Некоторые слова и целые фразы, красноречивые как жест, в переводе неизбежно теряют свою прелесть.
Стилистические особенности Шолохова позволяют установить некую преемственность, которая, разумеется, отнюдь не умаляет его самостоятельности. Подражание не обогащает, но культура — это, прежде всего, любовь к великим писателям и умение пользоваться их примером. Советская критика, разумеется, подчеркивает связь Шолохова с Горьким, которого она считает творцом так называемого социалистического реализма. Мне кажется, что это верно лишь в том, что Гумилев предложил называть эйдолологией: в выборе и окраске тем, в специфическом колорите идейного материала, словом, в том, что в старых теориях словесности называли содержанием, противополагая его с явными натяжками форме. Что же касается этой самой формы, то есть особенностей стилистических и композиционных, то здесь у Шолохова нередко что-то напоминает Гоголя, в особенности в лирических отступлениях, посвященных описаниям природы у Л. Толстого (говорю главным образом о структуре «Войны и мира»). Оговорюсь, что метафорами автор «Тихого Дона» нередко злоупотребляет, психологию героев склонен упрощать, незримое давление политического заказа преодолевает с трудом. Было бы, конечно, смешно требовать от писателя-коммуниста такой свободы. Шолохов где-то с гордостью заявил, что повинуется советский писатель лишь своему сердцу, а в сердце у него — коммунистическая партия. Принимаю эти слова на веру. Вскрыть внутреннее противоречие такого утверждения — одна из главных задач моей статьи о Шолохове-поэте, которого я, конечно, так же мало склонен отговаривать от верности своим идеям и привязанностям, как, вероятно, он не склонен мне внушать обаяние коммунизма. Поэзия ведь именно тем и сильна, что ищет правды непреходящей, и малые правды, как бы ни покоряли они умы и сердца современников, ее не смущают.
Казачеству до революции посвятил Шолохов всю первую книгу «Тихого Дона». Написал он ее уже после того, как закончена была книга, ставшая впоследствии второй. Он как бы повиновался голосу своей музы, требовавшей от него углубления фона. С подлинным художником это происходит неизбежно, когда, наблюдая явление в пространстве, начинает чувствовать его и во времени. География приглашает заняться историей. Шолохов ею и занялся. Задача сложная
Разумеется, для его героя, сознательного коммуниста Штокмана, нет сомнений, где тьма, где свет. Ставший впоследствии коммунистом, Шолохов, знающий не хуже своего героя историю народа и марксизм, тоже, видимо, уверен, на чьей стороне вся правда. Но Шолохов-поэт еще лучше знает, что всей правды ни у какой человеческой группы быть не может. Его цель показать, как прошлое влияет на настоящее, как вплелось в него, сопротивляясь новому.
В изображении Шолохова казачество до революции жило по Домострою. Поэзией и ужасами русского средневековья веет от многих его страниц. Религиозные обряды будто бы никак не могли быть источником духовного просветления, а приводили только к суевериям. Беспросветны и страшны будни казачества. Все это могло бы увлечь автора на путь преувеличений. Кое-где чуть заметно сгущение красок, затаенная тенденциозность. Но побеждает художник.
140
Чрезвычайно важно, что осужденный автором идеологически, Мелехов не может не вызывать симпатию. «Враг народа» в глазах коммунистов, «бандит» даже для своего малолетнего сына, Мелехов заставляет себя уважать, даже любить: он смел, искренен, самоотвержен. Любят его до умопомрачения две женщины. Читателю ясно, что это чувство не навязано им самодержавной волей автора, а обусловлено обаянием героя.
Был в 1921 году на Дону некий Мелихов, которого в советских источниках называют начальником шайки бандитов. Шолохов, добросовестно изучавший материалы на местах, быть может, пленился звуком имени, кстати, похожим на ассонанс: Шолохов-Мелехов. Но все это вопросы для литературоведов. Нас интересует жизненная и художественная правда в изображении Шолоховым главного героя его эпопеи. Мелехов написан с любовью. Рядом с ним коммунист Штокман, знающий хорошо, что надо и чего не надо делать, всего лишь резонер, похожий на Штольца в бессмертном «Обломове». Уж, казалось бы, что может быть беспомощно-обреченнее, чем жизнь Обломова. А любим мы именно этого увальня, неудачника, заспавшего свою душу. Заметим мимоходом, что у Гончарова — цель: обличить старое, отжившее, будто бы годное только на слом. Но в мировой поэзии не много страниц, равных этим по упоительной красоте (вот уж случай, когда можно не бояться этого осужденного снобами слова). Поэзия старины, привычного уклада жизни, вообще патриархальное, мирное, брезжащее светом веры в дело отцов, не менее праведна, чем любая новизна. Вспомним Гомера, Филимона и Бавкиду, старосветских помещиков. Детство Обломова — чудо осторожного прикосновения к тому, что обречено исчезнуть. «Как увядающее мило», хочется воскликнуть вместе с Тютчевым.
«Тихий Дон» тоже стоит перед угрозой исчезновения. Но нависшая над ним туча воистину грозная. Идиллические тона почти невозможны. Обломовщина в казачестве и сама по себе не очень тиха, не милосердна, груба, пьяно и буйно разгульна. А тут еще грозовое удушье приближающейся новизны, от которой знает автор и с которой скоро столкнутся его персонажи. По сравнению с Обломовым Мелехов — сама энергия, это — воин, герой. Но и он погибнет. В шумном романтическом вихре его отчаянных приключений и мытарств, в его мужественности, в его любви к двум женщинам, казалось бы, нет места для лени и скуки. На самом же деле это — метания над бездной. Автору хотелось показать обреченность человека, оторванного от народа, но получилось нечто более значительное, как это нередко бывает в поэзии. Над всей суетой внешней судьбы Мелехова как бы слышим мы тютчевский вздох: «и так легко не быть». Есть что-то призрачное в Мелехове, в его романтической яркости, гораздо более призрачное, чем в зевках лежебока с прекрасным сердцем, Обломова. Но интереснее всего, что влюбляет в себя Мелехов и. соревнующих двух женщин и, пожалуй, читателя, именно своими недостатками, искренностью своей двойственности.
Небезразличны читателю и обе героини Шолохова.
— Господи, покарай его! Господи, накажи! — выкрикивает Наталья, и этот неподдельный вопль боли мщения один мог бы спасти Шолохова от угрожавшей ему опасности вытравить всякое помышление о Боге, как это подошло бы стопроцентному коммунисту. Ведь «религия — опиум для народа», ее в лучшем случае терпят. Ее пытаются заменить тем, что Горький называл «третья действительность», то есть будущее, как будто временное может стать целью без вечного. Для людей типа Штокмана Наталья — отсталая, ее обращение к Богу — привычка, привитая исчезающим классом. Для читателя Наталья — страдающая женщина, и то, что она вспом-
141
нила о Боге возмездия не унижает ее. Не сказано ли: «Мне возмездье и Аз воздам».
Аксинья, эта, в сущности, грешница, замужняя женщина, отбивающая у законной его жены Григория, не менее трагическая фигура, чем Григорий и Наталья. Советские критики считают главной трагедией «Тихого Дона» трагедию индивидуализма в эпоху социализма. Не хочу здесь спорить о терминах. Скажу мимоходом, что индивидуализм и для нас, людей, уже столько лет живущих на Западе, явление неправедное. Говорю, конечно, не о понятии, а о том праве на эгоистическую обособленность, которую себе приписывают многие теоретики неправильно понятой свободы. Ибо свобода предполагает целый ряд самоограничений в интересах не только ближнего, но и в интересах раскрывающей себя личности. Но об этом в другой раз: это ведь и есть одна из основных предпосылок персонализма. Не соглашаясь с советскими критиками Шолохова, я делаю попытку защитить «Тихий Дон» от упрощения. История — не статистика побед и поражений. Она знает бесчисленные примеры побежденных победителей. Мелехов прежде всего носитель простого человеческого чувства. Трагедия Аксиньи (а значит и Натальи) не только выходит за пределы социального конфликта, но и дорастает до смысла трагедии вообще. Что такое трагедия вообще, то есть обреченность человека на грех и смерть, говорят лучше всего создания греческих трагиков. Тема Шолохова подошла бы Софоклу и Еврипиду. Этим я не хочу, разумеется, сказать, что у «Тихого Дона» есть право на бессмертие в том же смысле, в каком оно есть у «Царя Эдипа» или «Ипполита». Но я решаюсь утверждать, что без этой общечеловеческой трагедии ни одно произведение искусства не «клеймит сердца гармонией» (выражение Блока). Выписываю целиком описание одной из встреч Григория и Аксиньи:
«В горнице с наглухо закрытыми ставнями дымно горел жирник, Григорий сидел за столом. Он только что вычистил винтовку и еще не кончил протирать ствол маузера, как скрипнула дверь. На пороге стала Аксинья. Узкий белый лоб ее был влажен от пота, а на бледном лице с такой исступленной страстью горели расширившиеся злые глаза, что у Григория при взгляде на нее радостно вздрогнуло сердце.
— Сманул... а сам... пропадаешь...— тяжело дыша, выговаривала она. Для нее теперь, как некогда, давным-давно, как в первые дни их связи, уже ничего не существовало, кроме Григория. Снова мир умирал для нее, когда Григорий отсутствовал, и возрождался заново, когда он был около нее. Не совестясь Прохора, она бросилась к Григорию, обвилась диким хмелем и, плача, целуя щетинистые щеки любимого, осыпая короткими поцелуями нос, лоб, глаза, губы, невнятно шептала, всхлипывала:
— Из-му-чи-лась... Изболелась вся. Гришенька! Кровинушка моя!
— Ну, вот... Ну, вот видишь... Да погоди... Аксинья, перестань... — смущенно бормотал Григорий, отворачивая лицо, избегая глядеть на Прохора.
Он усадил ее на лавку, снял с головы ее сбившуюся на затылок шаль, пригладил растрепанные волосы.
— Ты какая-то...
— Я всё такая же. А вот ты...
— Нет, ей-Богу, ты — чумовая.
Аксинья положила руки на плечи Григория, засмеялась сквозь слезы, зашептала скороговоркой:
— Ну, как так можно. Призвал... Пришла пеши, все бросила, а его нету... Проскакал мимо, я выскочила, шумнула, а ты уж скрылся за углом... Вот уби-
142
ли бы, и не поглядела бы на тебя в остатний разочек...
Она еще что-то говорила несказанно-ласковое, милое, бабье, глупое и все время гладила ладонями сутулые плечи Григория, неотрывно смотрела в его глаза своими, навек покорными глазами.
Что-то во взгляде ее томилось жалкое и в то же время смертельно-ожесточенное, как у затравленного зверя, такое, отчего Григорию было неловко и больно на нее смотреть.
Он прикрывал глаза опаленными солнцем ресницами, насильственно улыбался, молчал, а у нее на щеках все сильнее проступал полыхающий жаром румянец и словно синим дымком заволакивались зрачки.
Прохор вышел, не попрощавшись, в сенцах сплюнул, растер ногой плевок.
— Заморока, и всё! — ожесточенно сказал он, сходя со ступенек, и демонстративно громко хлопнул калиткой».
Всё в этом отрывке, чуть-чуть напоминающем энергией и страстью лучшие страницы Бунина, удачно и значительно. Едва ли не главной причиной совершенно особенной остроты этой сцены я склонен считать присутствие Прохора, стесняющего и осуждающего обоих. Он как бы исполняет роль античного хора и заключительная его реплика звучит, как приговор судьбы. Не может кончиться благополучно эта неправедная не только для Прохора страсть, но как мы уже тоскуем, предчувствуя неизбежную развязку!
Любовь, измена, смерть, верность идее, поиски правды — всё это у Шолохова, по крайней мере, в этом его романе, — не упражнения на тему. Мелехов и Аксинья не только не безразличны автору, они оба — часть его самого. Какими фактами своей жизни поэт связан со своими героями, вопрос второстепенный, хотя и очень занимательный для его биографа. Но важно в каждом значительном произведении искусства, чтобы какой-то неповторимый голос личной судьбы, личной трагедии и страсти сообщал вымыслу ту жизненную правду, без которой читатель не почувствует волнения, не будет сострадать, останется таким же после чтения книги, каким он был до него.
Грешен ли коммунист Шолохов свободой? Отражается ли в его симпатии к Мелехову сознание, что дело не так просто, что протест и сомнение естественны там, где есть насилие? Не хочу углублять этот вопрос, но благодарен Шолохову за то, что этот его роман позволяет такой вопрос поставить. В огромном большинстве советских произведений, напротив, все ясно, но это — ясность без глубины. Боюсь, что «Поднятая целина» приближается к таким программным шедеврам.
Для советского критика «Тихий Дон» — первая часть эпопеи строительства социализма на Дону, «Поднятая целина» — часть вторая. Там еще только поиски пути, здесь уже достижения, «теснейшая связь литературы с жизнью». Привожу наудачу наиболее характерные оценки этого романа: Шолохов, по мнению одних, «показывает болезни роста в коммунистической деревне». Герои «Поднятой целины», по мнению других: «передовые люди деревни, воспитанные партией». Этот роман будто бы «школа характера на социалистической стройке». Единство в нем обусловлено тем, что «большевик Давыдов и страна одно».
Мне кажется, что художественная ценность «Поднятой целины» в том, что сквозь временное и современное показано вечное лицо деревни. Интриги, злоба, невежество, подлость (но и отходчивость) тех или иных крестьян заставляют вспомнить деревню у Чехова или «Деревню» Бунина. Деревня и у Шолохова не прикрашена. Неприглядная жестокость и темнота очевидны, но это лишь фон, на котором тем ярче выступают достоинства борцов за коммунизм.
143
У Чехова или Бунина картины деревни подчас безысходны. Но этот мрак искупается страданием ошеломленного им писателя. Отчаяние — уже дорога к просветлению. Но просветление по программе не убеждает.
Достоевский считал, что сама по себе любовь к ближнему противоестественна. Любить его можно только в Боге. Но в «Поднятой целине» Бога нет. Вместо религии есть идеи и принуждение. Борьба добра и зла упрощена донельзя: добро — строящийся социализм, зло — сопротивление ему. Люди и человеческие отношения становятся как бы аксессуарами боя, написанного в стиле батальных картин, только вместо солдат в дыму и пламени битвы сражаются «отсталые» и «передовые» крестьяне, не понявшие или понявшие героев-коммунистов. Написанное на такую тему и с такой целью художественное произведение может ли быть на высоте «Тихого Дона»?
Скажем сейчас же, что достоинств даже в этом романе Шолохова немало. Язык живой, меткий, характеристики героев, особенно второстепенных, иногда очень удачны, причем, да простит меня Шолохов, неблагонадежные нарисованы смелее и оттого убедительнее, чем коммунисты. Таков, например, Дымок, которого «исключили из комсомола, судили за поджог», но из которого «трудно было выбить жизнь». Бледнее Дымка сознательный Майданников, который, защищая колхоз, говорит: «Вас ВКП пихает на новую жизнь, а вы, как слепой телок: его к корове под сиську ведут, а он и ногами брыкается и головой мотает. А телку сиську не сосать, на белом свете не жить».
Такие или приблизительно такие слова вероятно звучат в советских деревнях нередко. Цель их ясна и, если верить, что строительство социализма по советскому образцу разрешает все проблемы жизни на земле, то эти слова могут быть неплохим педагогическим средством. Комментируя роль «Поднятой целины» советский критик с гордостью говорит, что строители какого-то колхоза в Румынии затребовали 25 экземпляров этой книги, чтобы убедить отстающих. «Я дарю вам стихи нужные как зубочистки», не без вызова бросил Маяковский, Практический интерес пропагандной или просветительной литературы нетрудно обосновать. От Шолохова, однако, нельзя не требовать чего-то более значительное. О трагизме «Тихого Дона» мы уже говорили. Этой глубины в «Поднятой целине» нет.
Перехожу к небольшой вещи Шолохова «Наука ненависти». Она тоже написана на случай. Но сколько в этом коротком очерке величия и простоты. Поверхностному гуманисту «Наука ненависти» могла бы дать повод для негодования. В самом деле, поэту не очень пристало разжигать в сердцах чувство мести. Но тютчевское приглашение: «а мы попробуем спаять его любовью» (его, то есть согласие) слишком платоническое. Любовь иногда не к месту или, вернее, она иногда имеет право принять форму ненависти. Некоторые католики утверждают, что Бог создал ад из любви к человеку, так как ненависть к злу праведна. Разумеется, победить в себе ненависть — подвиг святых, но святых ведь меньше даже, чем гениев. «Наука ненависти» написана превосходно. Вот первые строчки: «На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С., где они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты, в зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже
144
земля с бурыми опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах...
Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудесно сохранившаяся березка, и ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых, глянцевито-клейких листках.
Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением:
— Как же ты тут уцелела, милая?
Но если сосна гибнет от снаряда, падая, как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается смертью дуб.
На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безыменной речушки. Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние — всё еще жадно протягивают к солнцу точеные, тугие листья».
Этот замечательный отрывок показывает, как просто и сильно Шолохов умеет писать. Вспоминается князь Андрей и тот старый дуб, который сначала предстал ему погибшим, а потом на обратном пути снова зазеленевшим. Толстой связал с этим пробуждение надежды в душе князя Андрея. У Шолохова прямого параллелизма между состоянием души и рассказом в этом очерке нет, но что-то неуловимо определяет весь тон отрывка, сплетая ужас и слабую надежду в одно, как сплетены они в образах уцелевшей каким-то чудом березки и разорванного, но всё же зацветающего дуба. Шолохов вообще в ладу с природой. Душа его не душа выдумщика. И вот парадоксальное заключение: в этом очерке из ненависти вырастает любовь. Лейтенант Герасимов и его автор Шолохов, конечно знают, что педаль нажата, что звук преувеличенно громок, но боль и удивление перед размерами зла оправдывают всё. И вместо пропаганды против немцев написанный на случай рассказ Шолохова приобретает смысл какого-то траурного марша. Опять, как в замысле «Тихого Дона», правда трагедии облагораживает ужас. Странное дело: писатель бьется над словом, пробует и так и этак дать ему силу, действенность, остроту, а получается только упражнение на тему. И наоборот, он забывает о средствах выражения, о технических приемах, а вдохновение делает чудеса. Я не хочу этим сказать, что писатель не должен упорно работать над техникой своего ремесла. Но прав был Делакруа, говоря, что ремесло надо усвоить до такой степени, чтобы иметь право забыть о нем, когда придет вдохновение.
Я говорил в этой статье о том, что мне в поэзии дорого. Но Шолохов с трибуны съезда бросил обвинение своей меньшой братии, серому писателю. Позволю себе его защитить. Нет, это наверно не мертвые души, как Шолохов называет всю эту массу профессионалов литературы. Просто им не дано такого сильного, как у него, таланта, чтобы с его помощью победить предвзятое, подконтрольное видение России и мира. Я старался показать, что даже Шолохову такая победа не всегда удается. Да оно и не может быть иначе.
Советской критики в подлинном смысле этого слова не существует. А без нее как же может быть советская литература «первой в мире», «ведущей», «самой передовой».
145
Где теперь у вас, советские коллеги, статьи, равные, по глубине и свободе, речи Блока о Пушкине или, по независимости и компетентности, «Письмам о русской поэзии» Гумилева? Говорю, конечно, не о том, что равных тому и другому таланту может просто в данный момент и не быть ни среди вас, ни тем более среди нас. Но климат для таких статей, конечно же, у нас несравненно благоприятнее, чем у вас. Кстати, дорогой автор «Науки ненависти», неужели и в самом деле ненавидите Вы ваших эмигрантских коллег? Неужели у вас запрещают говорить о том, что многие, очень многие из них были с вами и душой и нередко прямым действием в борьбе с Гитлером? Защита Сталинграда и вся эпопея продвижения русских армий к Берлину были для них источником надежд, радости и даже гордости. Кое-кто из ваших зарубежных братьев по музам (а кое в чем и братьев по судьбам) был на фронте. Другой — в концентрационном лагере. Третий оттуда бежал, и западные коллеги Жукова, начальники того или иного фронта, отметили его заслуги в благодарственных рескриптах. Известно ли это у вас? Сопротивление (резистанс) — термин, изобретенный русским эмигрантом Борисом Вильде. Немцы его расстреляли. Он был писателем и ученым.
Еще несколько слов о советской критике. Социалистический реализм, который она проповедует, сокращает расстояние между постигающим и постигаемым до того, что все легко разъяснить, установить, подчинить плану. Беда только, что в этот план не могут быть включены вопросы духа.
Перед вами задача, которую один из участников съезда советских писателей определил так: «создание образов, способных вдохновить и вести за собой миллионы». Не очень скромная это задача, если говорить о создании литературного типа. Ведь в самом глубоком смысле слова такой тип — явление редчайшее. Это, например, Гамлет или Дон-Кихот или у нас Татьяна Ларина, Наташа Ростова. Очевидно, автор процитированных мною слов имел в виду литературу пропагандную. Но если сравнивать пользу такой литературы и хотя бы московского метро, то кому же неясно, что метро, как и более скромные дела рук человеческих, нужнее, чем искусство на потребу.
Хрущев жалуется, что советская литература посвящает много внимания «мелким и непримечательным явлениям». Для нас, писателей, дело не в этом, а в том, есть ли в таком-то произведении все то, что оправдывает бедность предпосылки, есть ли малый повод, чреватый великими последствиями.
Акакий Акакиевич — бедный чиновник. У него украли шинель. Вот и всё. Как будто и герой рассказа и то, что с ним случилось, — недостаточно интересны для создания сколько-нибудь значительной вещи. А ведь «из гоголевской «Шинели» вышла вся русская литература». И значит, ее завет — не пренебрегать «мелкими и непримечательными явлениями», а преображать их в свете всей правды. Вся же правда — это не человек социальный или экономический, не человек, положительно или отрицательно относящийся к христианству, Гегелю или Марксу, не обыватель или сановник, а человек в своем смертном составе, в муках любви, греха, страха познающий себя.
Это Акакий Акакиевич и Наполеон перед судом вечности.
Почему нет и не может быть сомнений, что «Шинель» — чудо искусства? Не только же потому, что художественные средства Гоголя так могучи. Они даже единственны в своем роде, спору нет, но могли ли бы они привести к таким результатам, если бы автор выполнял чей бы то ни было заказ, хотя бы и с пламенной верой, что это заказ, достойный его гения? Заказчиком для поэта может быть только жизнь во всей ее полноте. Но полнота жизни требует того, что вдохновляло греческих трагиков или библейских пророков.
146
В упрощенном понимании роли поэта нет памяти о пушкинском и лермонтовском пророке. Не из бюро партийного начальства, с портфелем подмышкой, и уж во всяком случае не таким же, каков он был в обыкновенной жизни, а после тяжкой, страшной операции, которой его подвергает шестикрылый серафим, выходит пушкинский пророк к людям. У него вырван «грешный язык, и празднословный и лукавый» и сверхъестественное нечто происходит с его сердцем раньше, чем он получает «заказ»: «глаголом жечь сердца людей».
Запомним при этом, что ждет такого пророка не премия такого-то вождя, а все, что описано Лермонтовым, как бы продолжающим видение Пушкина.
Пушкинский пророк еще в пустыне, лермонтовский уже среди людей. Он извергнут из общества, осмеян, его сторонятся, старцы учат детей ненавидеть его. Похоже ли это на немедленное увенчание заслуг?
Русская литература достигла небывалого величия именно тогда, когда она не стремилась принести пользу вещественную, а преображала страшную действительность, подвергая ее суду совести, ответственной только перед кем-то, кто выше людей.