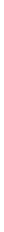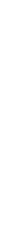Мы мало слишком мало отмечаем наши юбилеи. А жаль. Ведь время наше — время поминовения прежде отошедших отцов и братий наших. Мы умудрены предсмертной мудростью бессильных уже сказать новое слово, сотворить новую
жизнь. Но эта сумеречная спокойная мудрость тоже имеет и свою правду, и свою умиротворяющую печальную прелесть.
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...
И мы можем сейчас, в хрустальную пору нашего безродинного вдовства, многое переоценить, многому воздать по заслугам, а, главное, приложиться земле наших предков, чтобы почерпнуть хотя бы чужие — чужие ли? — силы для нашего средьмирного одиночества.
И другое: ведь всякий юбилей, всякая годовщина — вольное или невольное поминовение, а часто ли мы прикасаемся к нашей народной славе? Но вот прошли два столетних юбилея: со дня смерти Батюшкова и со дня рождения Гаршина,— и шестидесятая годовщина со дня смерти Лескова, а помянули ли мы их, ушедших из здешнего пестрого мира?
Мимо Батюшкова мимо Лескова проходили целые поколения русских людей, вовсе их не замечая. Вот так, как будто их и вовсе на свете не было. В каждой русской интеллигентной семье покоилась эдакой настольной библией «Русская муза» — чудовищная антология, составленная П. Я. И вот в этой самой «Русской музе» было много Гольц-Миллеров, Андреевских, Фругов, а о Батюшкове прямо и откровенно было написано — ничтожество, мол, и приведено — даже не в антологии, а в заметке, в качестве образчика батюшковской бездарности и «земляничности», прелестное стихотворение «Вакханка»: смотрите, дескать, дети, на него: ну, можно ли так писать?! Разве это стихи?! Вот то ли дело:
Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка темна ...
А Лескова именовали кривлякой, ретроградом, мелким очеркистом, изографом редкого, но случайного слова, — не любили его ни перечитывать, ни даже читать, а уж переиздавать совсем не любили...
Не то, совсем не то Гаршин: тут и мировая или надмирная скорбь, и сочинения его стали собственностью Литературного Фонда и переиздавались почти так же часто, как стишата Надсона, и годовщины его отмечались тем же Литературным Фондом, прогрессивно-мыслящими учителями гимназий, студенчеством, час-(181) то явно путавшими кое-какие повести Гаршина с «Ямой» Куприна: всё равно, об одном: о жертвах общественного темперамента и язвах буржуазного города…Благородно! — И небольшой, надтреснутый, но искренний голосок недовоплотившегоея писателя окончательно увязал и глох в дремучей бороде великого слюноточителя Венгерова, мямлившего и умилямлившего о героическом характере русской литературы, да тонул в океане михайловских словоизвержений.
Теперь, когда всё стало вверх пятами, когда не стало уже ни героического характера русской литературы, ни самой этой литературы, — легче расставить всё по местам. В живом жилом доме всегда некоторая несправедливость и некоторая неразбериха. А вот на кладбище — порядок, тишина, справедливость: мертвые все равны перед Полнотой Бытия. Творческие эпохи всегда жилой беспорядочный дом. Мусоргский и Бородин восхищались блестящей музыкой пустого Листа и зевали на «Страстях по Матфею» Баха, возмущались «изменой» своего друга Корсиньки, когда последний засел за фуги и инвенции великого Себастьяна. Да и сам упорный и дотошный европеец Римский-Корсаков скучал на больших концертных исполнениях Палестрины или Баха. Целое поколение — с Гоголем во главе — падало ниц перед лубочнейшим Карлом Брюлловым и прошло мимо строгой красоты державного Петербурга. Что же? Можем ли мы осудить поколения, не заметившие Батюшкова и Лескова, но давшие нам расцвет русской музыки, Достоевского и Толстого, лучшие лирические философемы Тютчева, Н. Ф. Федорова и Вл. Соловьева, Чехова и расцвет русской науки, русского театра, русского права? Давшие, наконец, того же Лескова? Нет, творческие поколения — всегда «партийны», односторонни, несправедливы: любовь — всегда несправедлива: она всегда в ы д е л я е т , всегда предпочитает, не по достоинству, а по сродству: не по хорошему мил, а по милому хорош.
А наш век, век ущербный, надломившийся, попросту померший в конце первой своей трети, оценил Лескова и Батюшкова чрезвычайно. Но к а к он оценил их? Любовались итальянской музыкой батюшковского стиха — и только. Смаковали узорочье лесковского сказа — и только. Есть ли это то, настоящее, чего ждет родивший произведение автор от «читателя в поколениях»? О, отнюдь не того ждет от читателя художник слова!
Умный и образованный, великолепный р а б о т н и к, воспевший в своих статьях Сальери, Осип Мандельштам очень высоко ценил Батюшкова. Батюшков для него не умер: он разговаривает с вологодским Анакреоном запросто: «ни на минуту не веря в разлуку», и, встретясь с поэтом на прогулке, —
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму, —
рассказывает нам Мандельштам. Но и для Мандельштама Батюшков — «нежный», он «словно гуляка с волшебноюо тростью». Так смотрели на Батюшкова и его современники. А, между тем, Батюшков был большой и подлинный работник. Ему принадлежит заслуга создания новых поэтических и прозаических жанров в русской литературе, например, эссеистики и литературно-критических статей об изобразительном искусстве («Прогулка в Академию Художеств»), ему принадлежит заслуга создания великой пластичночти и мелодичности, и гармоничности русского стиха. «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков»,- записывал Пушкин, и доказывал, что для выработки русского поэтического языка Батюшков сделал то же, что Петрарка сделал для итальянского языка.(182)
Большой поэт нашего сегодня — Мандельштам, вторит через столетие Пушкину, посвящая Батюшкову одно из своих последних стихотворений, последних, увидевших свет:
- Ни у кого — этих звуков изгибы...
- И никогда — этот говор валов . ..
Наше мученье и наше богатство
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства,
И гармонический проливень слез.
Работа над языком для Батюшкова была непомерно тяжела. Ведь большой поэт, мастер необычайно энергического стиха и смелого образа — Гаврила Державин, — был в языковом отношении груб, как варвар. Батюшков обтачивает язык, чтобы создать пленительную звукопись и мелодическую легкость. Иногда — в письмах — жалуется поэт на наш природный язык, приравнивая его к «волынке или балалайке»: «И язык-то по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за Ы, что за Ш, что за Щ, ШИЙ, ЩИЙ, ПРИ, ТРЫ? О, варвары!» Он, патриот, и он тут же извиняется за то, что «сердится на русский народ и на его наречие», но он — каменотес, которому необходимо из косной массы материи создать текучие и пластические, плавные формы. Он — инструментовщик, которому из хаоса первозданных звуков необходимо создать превосходно оркестрованную симфонию. А творец не только облюбовывает материал, а и сердится на него. Работник, всегда работник. Одного дарования мало: нужна огромная европейская выучка. И не только чтение и подражание, но упорная сосредоточенная работа. «Воспевший Тасса» пишет в своей записной книжке (1817): «Не надобно любителю изящного отставать от словесности. Те, которые не читали, Виланда, Гёте, Шиллера, Миллера и даже Канта, похожи на деревенских старух, которые не знают, что мы взяли Париж, и что Москва сожжена — до сих пор сомневаются. Но не надобно вдаваться в другую крайность. Не надобно беспрестанно слоняться из одной литературы в другую или заниматься одною древностью. И те и другие ш а л е ю т, как говорит мой чистосердечный Кантемир о сытом и моте. Есть середина. ... Кто обнимет всё творение ума человеческого и зачем? ... Талант не любопытен: ум жаден к новости, но что в уме без таланта, скажите, Бога ради! И талант есть ум: правда! Но ум сосредоточенный».
Европейская культура гуманиста Батюшкова — прямая предшественница пушкинской культуры и любознательности. Мало этого было и до, и после в русской литературе: русские не любопытны, — жаловался Пушкин. И это правда: настолько не любопытны, что мало кто разглядел, например, что основная мысль историософии «Войны и мира» заключена в этих же записях Батюшкова лета 1817 года. Это - записанный Батюшковым разговор с ним генерала Раевского: «Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, — из Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя отечества, из Кутузова – Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа - не великие птицы. Обстоятельства ими управляли, теперь всеми движет государь. Провидение спасало отечество»…
Умный и стремящийся к европейской образованности Батюшков отлично знал, что работа по созданию собственного национального литературного языка не может быть произведена карамзинскими путями прямой пересадки чужих форм, чужих словообразований, чужой методики, чужой системы понятий и образов: (183)«Каждый язык имеет свое словотечение, свою гармонию, и странно было бы Русскому или Итальянцу, или Англичанину писать для Французского уха, и наоборот». И Батюшков продолжает, ругаясь и кляня, высекать великую гармонию линий и форм из первозданного утеса именно русской речи.
Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов,
Тобою в чувствах оживаю;
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них не знаю.
(1819 - 1820)
Как много здесь и пушкинского, и тютчевского! Какая перекличка и с песнью Вольсингама и с немотствующим пониманием Тютчева! И какая звукопись! А вот предшественница «Неба Италии, неба Торквата» и других итальянских канцон Баратынского: здесь всё построено не только на мыслеформе, а и на изумительной мелодике и оркестровке, причем многократное и меднозвучное Р, в сочетании с открытыми валторновыми А и О (ра, ро), засурдинены к финалу губными и глухими, создавая не спад, а музыкальное понижение (на это многократно указывали еще формалисты):
Ты пробуждаешься, о, Вайя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод!
(1819).
Еще одно наблюдение: у Батюшкова музыкально-словесная ткань построена на длящейся мелодии-фразе, почти сквозной: на одном дыхании. Это — черта глубоко русская: русские протяжные песни. Впрочем, черта также и итальянская.
Подруги милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах.
(1810).
Чего здесь больше? Русской протяжной песни или западной пасторали? Или, может быть, гармоническое слияние этих двух элементов в одно чудное звучание, связанное у нас еще и с действительно превосходной музыкой Чайковского?
Нет, перечтите, обязательно перечтите Константина Батюшкова! И за мудрым звучанием его стихов «виноградного мяса» вы увидите умную и страдающую душу подлинного поэта: (184)
О, память сердца! ты сильней
Рассудка памяти печальной
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальной.
Я помню голос милых слов ...
Мы плохо, бесконечно плохо знаем нашу литературу. И поэтому — сознательно или бессознательно, — но у нас всё еще продолжают жить в душе если не оценки, то схемы и классификации позитивно-социологического направления, освященного именами от Белинского до Овеяннико-Куликовского. И марксические благоглупости ничего нового к этим схемам не прибавили. История русской литературы была подменена историей русской интеллигенции, вернее даже — той ее части, которая укладывалась в схемы «лишних людей» (Онегин, Печорин, Рудин и Лаврецкий, Обломов), «мыслящих реалистов» (Базаров), «кающихся дворян», народников и марксистов… Ну, а великая нутряная традиция русской литературы — от былин и сказок, житий и «Слова о полку Игореве», Аввакума и «Поморских ответов» — через Державина, Батюшкова, Пушкина «Бориса», маленьких трагедий и великолепной прозы; превосходной тяжкой лирики и эпоса Гоголя; великолепного эпоса первозданного рая Обломовки и Выборгской стороны, «Обрыва» и старых слуг Гончарова; через «глухие времени стенанья» Тютчева и философскую медитацию ученого В. Ф. Одоевского и неученого Лермонтова; через умный и прозорливый хрустальный холодок Баратынского и огнедышащую прозу Герцена и Константина Леонтьева — к величайшим вершинам нашей и мировой литературы — Достоевскому и Толстому, а затем — поворот к почвенному, коренному, к дониконовскому — сначала — славянофилы и Данилевский, Аполлон Григорьев; затем — отчасти Мей, Вельтман; наконец — недооцененный еще Эртель и. великий сказитель Лесков. В наши дни — Клюев, Чапыгин. Одновременно — русская романтика, настоящая, идущая от русского нутра, хотя часто в западной оболочке: Фет, Полонский, Блок; русская трагически-философическая лирика — тот же Фет, Случевекий, Сологуб, Блок; начатки неоклассицизма — Мандельштам. И вот, изучая русскую литературу во всём многообразном цветении её, необходимо очень и очень вглядеться в центральную для замечательного русского сказа фигуру — Лескова. Традиция великолепного русского дворянского языка мемуаров конца XVIII и начала XIX вв.; народный сказ — сказочный, песенный, бывальщинный; цветники и вертограды рукописные староверья; книжно-церковная традиция; южно-русская речевая и письменная культура; отчасти — русская литературная традиция, притом в боковой ее линии: Вельтман, Погорельский, немного — физиологические очерки Казака Луганского — Даля. Наконец, — огромная наблюдательность мыкающегося по всей России писателя. От Лескова пошел Ремизов, во многом пошли — в своем раннем периоде — Замятин, Пильняк, Серапионовы братья. Лесков — огромная веха на поворотном пути русской литературы — он перекидывает мостик к исконной, поддонной Руси. Делал это и Мельников-Печерский, но дарования не хватило.
Прежде всего диву даешься широте лесковского диапазона. Тут и излюбленный корневой быт духовенства — «Соборяне». «Мелочи архиерейской жизни» — и в корне чуждый и противоположный, казалось бы, жизненный строй и речевая культура василеостровских немцев — поразительные особым уютно-патриархальным лиризмом «Островитяне». Тут и старо-барский уклад Плодомасовых — и русско-украинский мягкий юмор «Печерских антиков», «Фигуры», «Заячьего ремиза». Тут и староверский домострой и патетика «Запечатленного образа» — и (185) разбойно-гулевая и страннически-подвижническая стихия «Очарованного странника». И чиновничий сказ, и сказ ремесленников и заводских рабочих. И рассказ о купецкой жизни — не в стиле поверхностного Островского, а трагедийный («Леди Макбет Мценского уезда») или гомерический («Чертогон»); тут и драма сводни, поданная всерьез и изнутри, без тени морализирования («Воительница») — и подлинные святые, те самые праведники, на которых и земля-то стоит. И где только нет этих праведников! И в «Кадетском монастыре» — и на дальнем севере, среди язычников («На краю света»); и среди духовенства — и в дальнем глухом городишке, удаленнейшем от всего света, среди квартальных и городничих («Однодум»); и в среде местечкового еврейства— и в украинском селе...
И каждый герой Лескова говорит ему — и его положению и происхождению — только свойственным языком. А какие гомерические образы, прошедшие, впрочем, через призму гоголевской патетики! Вспомним хотя бы совершенно необычайную картину купанья в «Соборянах» (начало главы шестой 1-й части). А смешанный русско-украинский язык, на который даже беззастенчивый в этом отношении Гоголь не решался!
И — что превыше всего — при художнической жестокости глаза (всё видит, ничего не спускает, не прощает — всё наружу, на свет!) — какая жадная, неуёмная любовь к жизни! Какое всепрощение и какой равный свет чистым и нечистым, праведным и грешным! Вот умирает в сумасшедшем доме помешавшийся на слежке и доносительстве Перегуд. И кончается «Заячий ремиз» изумительным аккордом: «Но Перегуд «победил смерть», он давно устал и сам давно хотел уйти в шатры Симовы. Там можно спать лучше, чем под тяжестью пирамид, которые фараоны нагромоздили себе руками рабов, истерзанных голодом и плетью. Он отдохнет в этих шатрах, куда не придет угнетатель, и узнает себя снова там, где угнетенный не ищет быть ничьим господином... Он ощутил, что его время пришло! Перегуд схватил из своих громаднейших литер Глаголь и Добро, и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам ... чтобы пошли отраженья овамо и семо. «Страшное великолепие» осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене, но что это было, того никто не понял, а сам Перегуд упал и не поднимался, ибо он «ушел в шатры Симовы».
Ну; разве не великолепнее, чем та же ситуация (финала) в «Красном цветке» Гаршина? И совсем, совсем другое... И всем светит солнце: и Перегуду, и праведникам, и Катерине Измайловой и плодомасовским умилительным карликам. И над всем миром скорбного и неуветливого бывания — пребывающая вовеки целящая и внутренне-умудренная сказка. Недаром сам Лесков так любил ее, так много легенд и сказок оставил нам — легенд из петериков и прологов, из цветников и маргагритов. Недаром Лесков заповедал нам, словами плодомасовского карлика Николы и блаженно-славного протоиерея Туберозова: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старой сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!»
За великим сказителем Лесковым потянулся к сказке и легенде большой русский писатель Ремизов. Может быть, единственно большой из писателей, живших и живущих в эмиграции. Во всяком случае, лучший мастер языка. И в этом —'великая правда и великое обновление культуры: приложиться земле предков. Да в легенде, в сказке заключена всегда великая и устойчивая правда.
Я вас спрашиваю: ну, какую там «научную» историю хотите вы построить? Бросим все эти социологические мудрования, Сорокиных и прочих. Бросим набившие оскомину разговоры о случайном и закономерном в истории, о критически (186)
или кретинически мыслящих личностях и прочий ветхий хлам замозоленных мыслей. Никогда не бывать истории наукой! А социологии — той просто никогда не состояться. Будет всегда философия истории — и история, как жанр исторической литературы. Как художество. Каким, например, мастером формы и сказа был хотя бы Ключевский!
«Голые факты»? Их могла придумать только нищая мысль отвыкшего думать и размышлять человека. То есть человека наших дней. Нет их — голых фактов, да и вообще фактов нет! Действительность является м н е, и я выбираю из нее то, что мне на потребу. Еще старик Кант говаривал, что природа нам ничего с а м а не говорит, а лишь отвечает на поставленные нами вопросы. Ну, а как мы ставим вопросы — дело известное: посмотрите, например, как мы гадаем: мы подсказываем гадалке ответ, желанный нам. Дважды два четыре? Голый факт? Ну, мы не спорим против таблицы умножения потому только, что нам эти факты безразличны: наплевать: четыре — так четыре! А если бы от этого что-либо важное для нас зависело, то, уверяю вас, была бы теория, утверждающая, что дважды два, скажем, пять.
А уж история — чистая творимая легенда! И это было бы вовсе не плохо, если бы творили ее сознательно по легендам, а не старались бы брать «голые факты». «Против фактов, мол, не попрешь!» А еще как прут-то! Все прут. Какие тут могут быть факты, когда приходится обращаться к «историческим источникам»! Ну, а источник, вестимо, дело партийное, всегда пристрастное. Если применить метод «сравнения» прямо часто противоположных известий и принимания чего-то среднего — опять ничего не получится: из прямо противоположных одинаково брехливых версий не выведешь истины... Сейчас в особенности каждый перевирает события на свой лад. Но и раньше было, в общем, то же. Вы скажете, что история писалась раньше отрешавшимися от мира
монахами, кои, мол, как Пимен у Пушкина —
Спокойно зрят на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева.
Как бы не так! У того же Пушкина, умного и зоркого Пушкина, а не его толкователей и извратителей, Пимен не фонограф, не машина, а человек из плоти и крови, человек, которому иной раз и на старости лет —
... чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!
Он, бывший царедворец грозного царя Ивана, он, боярин, может статься, насильственно постриженный в иноки, — может ли он вполне отрешиться от всего? Даже святость не есть совершенство во всех отношениях — ветхий Адам говорит сильно: «во плоти дано мне жало», — свидетельствует столп христианства, сам апостол Павел, а вы ждете какой-нибудь объективности от ученого монаха из бояр?
Нет, нет голых фактов — и механическое сличение источников не может помочь. Противоречивая путаница расползающихся в разные стороны свидетельств — плохая опора. Но вот есть легенды, сказания, в которых отстоялось всенародное осознание исторического события — не поверхностная хроника делишек, а глубинная народная история, как живой и единый процесс. Как и д е я. (187)
И вот в этом-то самом смысле великий сказочник-сказитель Лесков дает нам для постижения прошлого неизмеримо больше, чем поверхностные скукодейные истории русской культуры Милюкова и другие прочие... Ведь творческое художническое восприятие жизни, политически, практически и даже религиозно значительно менее корыстное, менее заинтересованное, чем публицистика, история, социальная мысль, чем летопись, наконец, — более правдиво внутренне и более содержательно и живо. Не только художественная, но и познавательная ценность Лескова — огромна.
После очень больших и сильных трудно говорить о талантливом, но не состоявшемся, о больше обещавшем, чем сделавшем. И всё-таки о Гаршине забывать не следует. Ведь забываем мы его только за то, что он старомоден, за то, что он шел как раз по той, фаворитизированной раньше дорожке «гражданской скорби». Но ведь это не полная правда. И некая — хотя и неполная — правда была и в этой самой душевной скорби, гражданской слезе. Была большая правда морального пафоса, горения, самоотверженной отдачи себя. Сейчас мы стали больно здорово умны и самонадеянны — даже маленькие ревельские стареющие гимназисты выступают в тоге розановского скепсиса и автономии эстетических ценностей. Даже парижане поплевывают — кто на Некрасова, кто на русскую классику до... Поплавского ...
Не будем торопиться сбрасывать с нашего вооружения до надтреснутости приподнятый голос русской «гражданской» литературы. А у Гаршина мы найдем много и другого: великое сомнение в допустимости художественного творчества — не греховно ли оно по самой природе своей? («Художники»). Этот вопрос будет мучить многих — от Толстого до Блока, Клюева и Мандельштама. И снять его с повестки дня мы не имеем права. У Гаршина мы найдем превосходный рассказ «Медведи», хорошие военные психологически весьма тонкие зарисовки, найдем очень большую душевную чистоту и яснодушность прозы, а мы уже снова — после сатанистских балаганов и богоборческой дешевки — начинаем вздыхать по чистоте и ясности ...
Нет, не будем сбрасывать с нашего вооружения Гаршина! Лучше же помянем добрым словом — и перечитаем — больших и меньших, но искренних и н а с т о я щ и х , не сделанных полуграмотной критикой, а сказавших — в меру сил своих — свою правду. Поминовение — начало воскрешения. И в этом его правда и значение. Воскрешение же и прежде отошедших, и нас — омертвевших уже при жизни. (188)