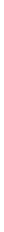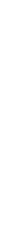ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ БИЦИЛЛИ
Проблема жизни и смерти в творчестве Толстого
У всякого подлинного гения непременно есть некоторая основная интуиция, определяющая все его творчество. На то он и гений, т. е. индивидуальность в полном смысле слова, все «объективное» себе ассимилирующая, а не просто поглощающая, а потому и способная созидать нечто новое, свое, а не только передавать воспринятое, как делают прочие люди. У гения есть предмет, на который всегда обращено его внимание, причем отличие гения от просто маньяка состоит, с этой точки зрения, в том, что эта обращенность на одно и то же у гения не истощает его сил, а, напротив, укрепляет их. Предметом, на который неизменно была устремлена душа Толстого была — смерть, не как метафизически случайный, хоть и неизбежный конец жизни (как у Пушкина); но как ее завершение и ее отрицание, как загадка, являющаяся загадкой самой жизни. «Мне очень хорошо жить на свете, т.е. умирать на этом свете», — пишет он Страхову в 1887 году. За несколько недель до кончины Толстой пишет Черткову о внезапной смерти: «я... понял то, что, несмотря на то, что такая смерть, в телесном смысле, без страданий телесных, очень хороша, она, в духовном смысле, лишает меня тех дорогих минут умиранья, который могут быть так прекрасны»[1]. Начал он с ужаса перед смертью, перед ее тайной. Жизнь вопиет против смерти, здоровый человек не вмещает мысли о ней. Замечательным символическим выражением этого является образ Пьера. Он присутствует при смерти отца — и не понимает происходящего: ему скучно и хочется спать, он идет на расстрел — и не боится, потому что убежден, что его, Пьера, казнить не могут. Он присутствует при расстреле Каратаева — и моментально забывает, что делали над Каратаевым два французских солдата. Он спокойно стоит под пистолетом Долохова и даже не пробует закрыться своим. Он сидит на Шевардинском редуте и озирается кругом с радостной улыбкой, не понимая, что валяющиеся вокруг него люди — раненые и убитые. Он возвращается с Вилларским в освобожденную Москву — и там, где Вилларский видел только смерть и разрушение, Пьер видел только «необычайно могучую силу жизненности» русского народа. Как он ни старается, соблюдая требования масонства, сосредоточиться на мысли о смерти, —у него ничего не выходит. Смерть над ним бессильна. От всех лишений и ужасов, пережитых им, он только крепнет. Он единственный из всех героев «Войны и мира», над которым словно не властно время: Толстой, тщательно следящий за трансформациями всех остальных людей, вызванных к жизни магией его таланта, оставляет Пьера без изменений. Олицетворение «чистой» идеи Жизни, Пьер выполняет в романе роль «жизнеподателя». Весь его образ — категорическое «Нет!», которое Жизнь бросает Смерти. Смерть обессмысливает Жизнь... «если хорошенько подумать, что она (смерть) все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет» (письмо к Фету 1860 г. о смерти брата Николая). С мучительным любопытством вглядывается Толстой в умирание, в отход человека от жизни, обращение его в ничто:
«для чего хлопотать, стараться, продолжает он, коли от того что «был Н. Н. Т., для него ничего не осталось. Он не говорил, что «чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом произнес: да что же это такое? Это он ее увидел, это поглощение себя в ничто... Все кто его знали и видели его последние минуты, говорят: как удивительно спокойно, тихо он умер; а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня». (Ср. смерть Ивана Ильича, смерть Николая Левина, умирание кн. Андрея).
Если бы, однако, смерть была только поглощением личности «в ничто», если бы «Ничто» было подлинно «Ничем», то смерть была бы только отвратительна, но уже, пожалуй, не так загадочна. Почему смерть есть в то же время и какое-то просветление (см. те же произведения)? Солдат, раненный в стычке с горцами,
«казалось, похудел и постарел несколькими годами, и в выражении его глаз к складке губ были что-то новое, особенное. Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, спокойно-величественные черты»[2].
Есть в «Войне и Мире» одно ошеломляющее место: кн. Андрей, возвращаясь из Отрадного, где он впервые увидел Наташу, видит зазеленевшим и словно возродившимся старый дуб, мимо которого он уже проезжал раньше.
«да, это тот самый дуб, подумал кн. Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна...»
Незадолго до создания «Войны и мира» нечто подобное пережил он сам:
«Мне жалко тебя, — пишет он брату Сергею Н. по поводу смерти Ник. Н., — что тебя известие это застанет на охоте, в рассеянности, и не прохватит так, как нас. Это здорово. Я чувствую теперь то, что слыхал часто, что, как потеряешь такого человека, как он для нас так много легче самому становится думать о «смерти» (1860).
Всматриваясь в то, как умирают близкие люди, Толстой как бы сопричащается таинству смерти. В 1906 году Софии Андреевне Толстой, почти умиравшей, сделана операция. Он записывает в дневнике (2 сент.):
«нынче сделали операцию. Говорят, что удачно. А очень тяжело (т.е. то, что ее спасли! — П. Б.). Утром (т.е. до операции) она была очень духовно хороша. Как умиротворяет смерть. Думал: разве не очевидно, что она раскрывается и для меня и для себя; когда же умирает, то совершенно раскрывается для себя: «Ах, так вот что». Мы же, оставшиеся, не можем еще видеть того, что раскрылось для умирающего» (цит. у Бирюкова, IV, 126).
Несколько времени спустя снова — по поводу кончины дочери, Марии Львовны:
«Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его pacкpывaниeм, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области прекратилось, т.е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда?...» (27 ноября, там же. 130).
Доминанта миросозерцания Толстого — мистики смерти. Я не могу нагляднее показать это, как, прибегнув к приему, которым не хотелось бы пользоваться, так он банален, — к сравнению Толстого с Достоевским. Но оно необходимо, необходимо настолько, что не использовать его было бы настоящей методологической ошибкой: на него наталкивает самый факт одновременного существования этих двух равновеликих, но столь по всем несхожих гениев. Уже то одно, что они высоко ценили друг друга, но никогда не видались, имеет значение символа, повелительно зовущего преклониться перед очевидностью своего смысла. Как ни банален прием, он требуется свойствами самого предмета.
Мистика смерти Достоевскому совершенно чужда. Он никогда не описывает умирания. Его герои умирают мгновенно: либо их убивают, либо они убивают самих себя. Смерть старца Зосимы и смерть Макара Ивановича («Подросток») не составляют исключения: речь идет об отходе, о расставании с близкими, но не о таинственном перерождении, не о «раскрывании». Достоевский, правда, говорит о чем-то подобном, влагая это в уста умирающим, — но как-то слишком уж хорошо по-«церковному», чересчур «житийно», чересчур поучительно; нет ужаса, не чувствуется тайны.
Изумительны страницы, посвященные изображению душевного состояния Алеши после смерти старца Зосимы. В душе Алеши старец продолжает жить. Умирание старца не изменило его образа ни на одну черточку в Алешином сознании. Он только стал Алеше еще дороже. Той манящей, затягивающей и страшной жути, которой веет, например, от евангельского сказания о встрече на пути в Эммаус, здесь и в помине нет[3].
Кто разделяет глубочайшую мысль Гете о связи между «демоном» человека и его «судьбою», об имманентности судьбы, для того уже сопоставление жизненного пути Достоевского и Толстого, с точки зрения отношения к смерти, должно пробрести важный символической смысл. Толстой нисколько раз сопричастился таинству умирания, прежде нежели достиг, в полном обладании сознанием, того возраста, когда человек становится свидетелем собственной смерти. Достоевский пережил ужас другого рода: ужас смертной казни, мгновенного насильственного извне являющегося, пресечения жизни. Замечательны «вещие сны» (он «верила» в сны Достоевского: ему мерещатся катастрофы, уносящие его близких, детей, жену (см. его письма к Анне Гр. Достоевской).
Отношением к смерти — объективно самому важному, как всеобщему, непреложному и неизбежному в жизни, — определяется у каждого отношение к жизни. У художника, следовательно, им определяется все его творчество. Я сделаю несколько сопоставлений, которые облегчат нам дальнейший анализ. Известна близость Достоевского к Бальзаку. Здесь не просто «влияние» последнего на первого: они во многом «конгениальны». У Бальзака есть изумительные по силе описания смерти. УмираетПонс, «le cousin Pons». Его умиранию отведена отдельная глава под много говорящим заглавием: «La mort comme elle est». Сознание умирающего обращено всецело на друга Шмукке, нашего коллекции, на M-me Gibot (дворничиху), которая их разворовывает. И внезапно, «так что Шмукке не успел заметить, как это произошло, Понс испустил дух». Тотчас начинаются отвратительных и страшные хлопоты равнодушных баб над телом мертвеца. Жуткий трагизм в этом сочетании житейской пошлости и равнодушия перед лицом смерти с безутешным горем остающегося в одиночестве Шмукке: но в этой гениальной сцене у покойника уже нет никакой собственной роли. Умирает старик Горио. И его сознание обращено исключительно «по его сторону» бытия, — на дочерей. Трагизм его смерти в том, что он рвется к жизни, хочет радоваться счастью дочерей и — не может: в этом и состоит смерть — в разрушении тела и в разложении сознания. Никакой своей тайны у смерти нет. Так и у Достоевского.
С тайной смерти связана особой диалектикой мистики тайна рождения. Исходным пунктом диалектической работы в этом направлении служить основная идея мистики смерти: Смерть есть рождение в новую жизнь. Stirb und werde! С максимальной гениальностью эта таинственная связь рождения и смерти выражена в самом построении завязки «Войны и Мира». Я миную первые главы — это еще только «пролог», подготовка, и только «литература», хоть и первоклассная. Настоящая магия, подлинное жизнетворчество начинается с описания именин в дом Ростовых. Радость пробуждающихся жизней и непосредственно вслед за этим мучительное умирание старого графа Безухова. Кто хоть раз читал «Войну и Мир», в сознании того эти два момента остаются навсегда слитыми воедино. Та же идея выражена символически и в других, столь известных, эпизодах:— смерть маленькой княгини от родов, смерть Николая Левина, совпадающая с началом беременности Китти. В обоих эпизодах подчеркнута двойственность тайны жизни, мистическое сродство Начала и Конца. Толстой здесь встречается с Гете. В «Wahlverwandschaften» описываются крестины сына Эдуарда и Шарлотты. Миттлер говорит престарелому священнику, что последний может применить к себе слова Симеона Богоприимца. Священник падает замертво.
«Увидеть рождение в столь непосредственной близости к смерти и гроб — к колыбели, и осознать это, охватить не просто воображением, но взором эти ужасающие противоположности, было «для присутствующих тем более тяжкой задачей, чем неожиданнее она им представлялась»[4]
Один только раз аналогичный мотив использован Достоевским. Но — совершенно иначе. Это — роды жены Шатова и его убийство. Единственная цель Достоевского — подчеркнуть жестокость смерти бедняги Шатова как раз тогда, когда ему как будто улыбнулась надежда на счастье. Это гениальная мелодрама, не — мистерия. Между тем романы Достоевского принято называть — и по праву — «мистериями». Но это мистерии в средневековом, специальном, театрально-техническом смысле слова. Для мистерии характерно то, что в ней «персоны», участвующие в «действе», олицетворяют сверхличные «реальности», Грех, Смерть, Небесную любовь, Геенну огненную и т.д. Все искусство Достоевского определяется той концепцией сущности жизни, которую он выразил в словах: «Бог с Диаволом борются, а поле битвы — сердца людей». Потому-то Достоевский и создал «роман-мистерию», что он по натуре не мистик, а онтолог[5]. Его «опыт» открывает ему не полноту Всежизни, таинственно осуществляющуюся в нем самом, но «реальную наличность» в душе его отдельных, обособленных и противоборствующих жизненных сил или «идей», — тогда как для того, кто является, подобно Толстому, по натуре мистиком, все то, что онтолог[6] переживает как идеи, не более чем простые понятия, за которыми кроется иная, этими понятиями отнюдь не исчерпываемая и раскрывающаяся вне их таинственная, «мистическая» реальность. В соответствии с этим, у Толстого действующая лица «представляют» не Идеи, а различные формы одной и той же в них пульсирующей и через них себя проявляющей Жизни, в которой смешаны и слиты «хорошее» и «дурное»,— «хорошее» и «дурное» с человеческой точки зрения, — но в которой не противостоят и не противоборствуют «чистые» Добро и Зло. У Толстого нет «абсолютно злых», т.е. служащих Злу ради особого удовольствия, связанного со Злом, людей. Его «отрицательные типы» — это люди с умаленной жизненной силой, с пониженным эротизмом и потому лишенные чуткости, способности понимания. В людях они либо видят одну лишь интеллектуальную сторону и потому не в состоянии ни с кем поговорить «по душе», а могут только спорить «об умном» и так, что это обязательно выйдет некстати (разговоры Кознышева с Левиным!); либо просто вообще ничего не видят, никак не «объединяются» с другими, третируют этих других так, как если бы это были мертвые «вещи». Для людей с предельной степенью бездушия такие «вещи», пожалуй, даже дороже живых существ (Берг!). Это слабые, пошлые, ущербленные, жалкие люди. «Грешники» же Толстого все весьма симпатичны, потому что никакой воли к злу, к мучительству у них нет. Исключение составляет разве Долохов, да и у него «демонизм» скорее поза, мода, черта «времени» — подобно «меланхолии» Жюли Карагиной. У Достоевского также имеются, наряду с титаническими злодеями, душевные кальки в толстовском смысле. С неменьшей остротой изображает и он ущербленность и бездушность «умных» людей и их особую духовную слепоту: только у Достоевского это чаще всего слепота на зло. Бездушие у его убогих людей сочетается с «прекраснодушием» (Степан Трофимович!), которое является матерью подлости (его сын). Достоевский подчеркивает у духовных кастратов этого рода невосприимчивость к онтологическим величинам (невосприимчивые к Злу, они невосприимчивы и к Добру; они и не добрые, а «добренькие» — его эпитет), Толстой — неспособность к мистическим восприятиям.
Сказанное мною вовсе не идет вразрез с общепринятым пониманием, как это может показаться на поверхностный взгляд. Надо только остерегаться смешения понятий «мистика» и «христианство». Существует «христианская мистика» и известны великие мистики, бывшие великими христианами; но «чистая мистика» и «чистое христианство» — если только под христианством понимать христианское богословие — друг друга исключают. Мистическое миропонимание — имманентно, христианское — трансцендентно; первое стремится преодолеть понятия Творца и Твари, охватив их вместе некоторой высшей идеей — Всеединства; для второго — эти понятия являются предельными. С самого начала христианства христианская мысль, повинуясь велениям религиозной — мистической — душевной потребности, бьется над квадратурой круга — объединить Творца с Тварью, но так, чтобы сохранить их раздельность и «внеположность» — и все до сих нор предлагавшаяся попытки решения удавались лишь внешне, формально, путем подмена живых идей понятиями. Мистика в христианской Церкви занимает положение, напоминающее положение евреев в средневековой Европе: фактическое могущество и руководящая роль отдельных единиц при всеобщем бесправии. И недаром! «Чистая» мистическая философия приводит обязательно к тому, что, с христианско-богословской точки зрения, является безбожием: Спинозе и Толстому не место ни в Синагоге, ни в Церкви. Конечно же, Достоевский — христианин, Толстой нет: не «ущербленный христианин», как его назвал Струве, а никакой[7]. И, конечно же, только с христианско-богословской точки зрения он «безбожник», он, полный Богом, он всю жизнь «мучимый Богом» Достоевский — «чистый» христианин, обходящийся в своей сознательной жизни, без мистических точек зрения[8]. Бог «мучил» всю жизнь и его — слова эти ведь им сказаны — и по иному: пределом дерзания для него было — «почтительнейше возвратить билет» тому, кто человека враждебной властью из ничтожества (т. е. небытия) воззвал. Такого рода «бунт» психологически невозможен для «чистого» мистика, ни от кого никакого билета не получавшего. «Атеизм» Достоевского) в его «идее», — «не маловерие», не «безверие»; но постулат нравственного сознания: у Кириллова — для того, чтобы спасти свободу человека (как в этике Николая Гартманна — чтобы обосновать полноту его моральной ответственности); у Ивана Карамазова — для того, чтобы спасти... идею Бога; логический тупик, куда заводит вера в личное божество. Этот «атеизм» не имеет ничего общего с «атеизмом» Толстого — и только по бедности нашего языка мы называем эти столь различный по происхождению и по внутренней сущность вещи одним и тем же словом. «Атеизм» мистика — не что иное, как такое напряжение непосредственного ощущения единства Всего, при котором утрачивается сознание подчиненности части Целому.
Даже самый элементарный человек чересчур сложен, чтобы его сущность можно было исчерпать строго согласованными между собою определениями. Тем более — великий человек. Бывали и у Достоевского свои минуты мистицизма, но это были перерывы в его раздумьях, моменты помрачения сознания, перехода в какую-то другую плоскость существования, отдохновения от его внутренней работы, — не исходные точки для нее и не ее результат. Мистика Достоевского связана с его болезнью, мистика Толстого — с его «конституцией».
Приведу два отрывка, показывающие, до какой степени Толстой был проникнут подлинно мистическим жизнеощущением и как был занят его ум центральной проблемой всякой мистической философии. Первый отрывок — запись в дневнике, сделанная в Швейцарии в 1857 г. (у Бирюкова, I, 321):
«Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну «бесконечного неба, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой (sic!), когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. А эта голая, пустынная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы (sic!), не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой «дали»[9].
Этот отрывок можно счесть одним из поразительнейших образцов философско-художественной прозы, т. е. такой, где «форма» всецело адекватна «содержанию», так что его нельзя излагать «своими словами», нельзя «комментировать». Нечто подобное в этом отношении можно встретить у Поля Валери. Второй отрывок — из письма к Н.Н.Страхову 1876 года (Переписка. 74):
«Я определяю жизнь объединением части, любящей себя, от остального... Человек знает только живое. Поэтому для живущего доступно только живое, подобное ему (жизни); все же, представляющееся ему мертвым, есть живое, недоступное ему. Оно-то и есть непостижимое (курсив, как и дальше, Толстого) и не только соприкасающееся, но и обнимающее его... Но если человек может понимать только жизнь и не может понимать конца объединением (sic! м. б. объединениям? П. Б.), то у него необходимо является понятие бесконечного живого... объединяющего в себе все. Объединение же всего есть явное противоречие... Бог живой, Любовь, есть необходимый вывод разума и вместе с тем бессмыслица, противная разуму».
Ничто не препятствует нам освободить себя от обязанности разбираться в этом косноязычии, сославшись на отзывы стольких «умных» людей, признавших, что Толстой был «великой художник, но плохой мыслитель». Но мы ничем не рискуем, сделав все же попытку понять Толстого. В первой фразе, по-видимому, «объединение» спутано с «отъединением». Сама эта путаница терминов говорить многое. Мысль Толстого вероятно такова: Жизнь бывает только личная. Жизненное начало воплощается в определенных формах — следовательно, в определенных границах. Всякая эмпирическая жизнь есть осуществление некоторой самости, «отъединенной» от Всежизни. Поскольку я в среде, окружающей меня, доступной моим восприятиям и воспринимаемой мною в качестве отличной от самого меня сферы, различаю живые существа, я их объединяю вместе с собою в одно целое по этому признаку, включаю их в меня самого и противополагаю их всех вместе со мною всему тому, что мне представляется неживым, мертвым, т. е. тем, что включить в себя, понять (в буквальном смысле этого слова — comprehendere) я не могу. Толстой не останавливается на вопросе, почему я одно воспринимаю как живое, т. е. как в каком-то отношении солидарное со мною, почему я его «понимаю», а другое — нет. Что Толстой близко подходил к объяснению, которое дает Бергсон — это явствует из его художественного творчества. У него люди, живущие «головою», «рассудком», стремящиеся все «понять» умом, на самом деле ничего не понимают, все воспринимают как мертвое, все мертвят, все разлагают, и, значит, уничтожают. Разум по учению Бергсона относится к практической, а не теоретической стороне личности. Я изолирую, рассматриваю как тождественное самому себе, как обозримое с любого конца, как неизменное, замкнутое, отграниченное всецело от окружающей сферы, короче, как материальное, мертвое, косное, то, что для меня, с моей точки зрения является пассивным, «чистым объектом», мне «принадлежащим», то, чем я только «пользуюсь». Все то же, с чем я вступаю во взаимо-отношения, все это для меня таково, каков и я сам — живое. Но способность постигать живое — это способность сочувствия, симпатии. То «вне меня» находящееся, чему я сочувствую, я тем самым и мыслю уже не как «чистый объект, но как нечто «объединенное» со мною, и вместе со мною «отъединенное» от всего «обнимающего» меня, т. е. как некоторую «большую самость», большую индивидуальность. Чем сильнее эта моя теоретическая (в буквальном смысле этого слова (от греч. theoreîn, смотреть) способность, тем более широкая сфера «объективного» включается мною в это «объединение» — и, действительно, я не вижу «конца», т. е. предела, такому возможному расширение моего Я. И «мертвая» природа может для меня стать частью «меня самого» — или, что то же, «я сам» — «частью всего бесконечного далека», как говорит Толстой в предыдущем отрывке. В пределе, таким образом, Все может войти в это «объединение». Но «объединение» есть в то же время и «отъединение» — ибо то, что объединено, есть «самость», individuum, субъект. Мы, таким образом, приходим к внутренне противоречивому понятию Бога, т.е. абсолютного субъекта, Субъекта, включившего в себя весь объект, «объединения» без «отъединения», к понятию жизни, которой уже не противостоит ничто мертвое. Но жизнь, продолжу я ход мыслей Толстого, есть деятельность, а не только созерцание; в жизни нет и не может быть чисто «теоретического» отношения к живым, вне меня сущим, самостям, почему я никогда и не объединяюсь с ними всецело, но мыслю их в одно и то же время, как неотъемлемую часть меня самого и как нечто другое» — и мы увидим, какое место в творчество Толстого занимает эта проблема двойственности отношения «моего Я» к «живому вне Меня»; — так что достижение необходимого предела в расширении субъекта равносильно выходу из Жизни, — Смерти. Переходя от жизни к смерти, включаясь в то «чистое объединение», в «бесконечное живое, объединяющее в себе все», субъект в силу этого «отъединяется» от всех частичных жизненных форм, в том числе и от своей собственной, они все для него умирают, обессмысливаются, но уже не потому, что они обращаются для него в пассивные объекты, не потому, что теоретическое отношение к ним вытесняется практическим, но потому, что, включаясь вместе со мною — уже утрачивающим «мое Я» — в Абсолютный Субъект, они, эти формы, утрачивают, как и сам я, свою самость. Это и есть мистика Смерти, метод, путеводной звездою на котором светите, для духа, стремящегося к постижению последней, не поддающейся никакой словесной квалификации загадки Сущего, образ смерти.
***
Бальзак и Достоевской — психологи-экспериментаторы. Они помещают человеческую душу в определенные «лабораторные» условия, они вызывают в ней по своему усмотрению известные реакции, они распластывают ее «ножом анализа», они «освещают» ее «закоулки» и ее «бездны», они приготовляют из нее «препараты», в которых отдельные, почему-либо остановившие их внимание, волокна душевной ткани выделены при помощи особой окраски, — и мы поражаемся их «мастерством», их «искусством» и всем тем, что это «искусство» нам «открывает». Толстой никаких «открытий» не делает, а о его «искусстве» как-то даже не думаешь, когда читаешь его. Не меньше, тех двух обогащает он наше знание о самих себе, но совершенно по-иному, — как это делает сама жизнь. Я не знаю, что именно нового дал мне Толстой, не знаю по крайней мере до тех пор, покуда не начну раздумывать об этом, — как не знаю, что именно нового я узнал о себе самом из опыта вчерашнего дня. Романы Толстого не «сердце в душе», не «художественное творчество» в общепринятом смысле этого слова, но нечто, принадлежащее к совсем иному порядку. Нет ничего общего между нашим отношением — к Корделии, Гретхен и — к Наташе Ростовой. Первые — все-таки «литература», «типы», «образы», а эта все равно, что сестра, жена, дочь. И уж, конечно не благодаря превосходству своих «качеств». Куда Наташе до Корделии! Очень поучительно просмотреть конспекты Толстого к «Войне и мире», где набросаны т. сказ. остовы его героев. Они подтверждают то, что сказал Алданов о «мизантропии» Толстого. «Мизантропия» эта сводится, впрочем, к тому, что Толстой видит и знает только «обыкновенных» людей, таких, «как мы».
Я раскрываю Шекспира, Расина, Софокла — и сразу перехожу из «жизни» в какую-то другую «высшую» сферу — «искусства». Я «восхищаюсь» в иной мир, мир «идей», «образов». Я раскрываю «Войну и Мир», — и это для меня все равно, как если бы я из своей квартиры перешел в... дом Ростовых. И ничего больше. Как всегда, когда попадаешь в первый раз в большую семью, сначала не видишь отчетливо людей и не усваиваешь твердо их взаимоотношений. В сознании отлагается некоторый цельный образ, куда входят улыбка, черные усы, влюбленные глаза, оживленный, добродушный голос, и мало ли еще что. Постепенно эти атрибуты отделяются от общего образа, прикрепляются в нашем сознании к их «носителям», мы «узнаем» Наташу, Николая, Соню, строгого графа; мы выясняем, кто кому чем приходится; но первоначально образовавшийся у нас в сознании общий образ, растеряв свои атрибуты, не рассеивается в воздухе; напротив, — крепнет и конкретизируется. «Дом Ростовых» нечто совершенно иное, нежели «братья Карамазовы», которые, и вместе с их отцом, не образуют никакого «дома», никакой конкретной величины.
Почему, собственно, Карамазовы — «братья» и сыновья одного общего отца? Эта художественная необходимость обусловлена не столько психологической необходимостью (вопреки общепринятому взгляду), сколько, т. сказ., «онтологической». Можно показать, что все они отдельные, необходимые «моменты» в диалектическом развитии одной «сущей» идеи. Нет ничего в тех «тайных» соотношениях между людьми, в раскрытии которых собственно и состоит исключительное мастерство Достоевского, что не поддавалось бы нацело рационализации. «Родословный» Достоевского метафоричны — как у историков культуры. Степан Трофимович в таком же смысле «отец» Петра Верховенского и Федор Карамазов — отец Ивана, Димитрия, Алеши, в каком по Ключевскому герои Фонвизина — «предки» Евгения Онегина. Отношение «братьев» Карамазовых к «отцу» их не иной природы, нежели отношение Петра Степановича, Шатова, Кириллова к Ставрогину. Метафорически и они «братья», а он их «отец». У Толстого «рациональные» притяжения и отталкивания всегда как-то связаны с «кровными», «плотскими», возникающими на почве эроса. Иногда — чаще всего — эти притяжения и отталкивания так и не поддаются рационализации. Толстой их чувствует и, вместе с ним, чувствуем и мы: он их не «объясняет» — он их просто показывает.
«Le charmant Hyppolite поражал своим необыкновенным сходством с сестрой-красавицей и еще более тем, что, несмотря па «сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостною, «самодовольною, молодою, неизменною улыбкою жизни; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу...»
«Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек... Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда, до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною женой. Ему, видимо, все 6ывише в гостиной не только были знакомы, но уже надоели ему так, что и смотреть на них и слушать ему было скучно. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившей его красивое лицо, он отвернулся от нее».
И этот Ипполит, которого какую-то тайную связь с кн. Андреем бессознательно почувствовал Толстой, — что и сказалось на параллелизме характеристик, — ухаживает за его женой, а брат Ипполита отбивает у него невесту. Сперанской говорить, «договаривая каждый слог и каждое слово». У Наполеона «резкий, точный голос, договаривающий каждую букву»; он «отчеканивает каждый слог». Кн. Андрей «ни у кого не видал таких рук, ...необыкновенно пухлых, белых и нежных». У Наполеона «маленькая, пухлая, ...белая рука». Толстой настаивает на этом параллелизме: Ростову «вспоминался этот самодовольный Бонапарт с своею белою ручкой». Кн. Андрей «наблюдал все движения Сперанского... теперь «в руках своих — этих белых, пухлых руках — имевшего судьбу России».
Те сложные «сцепления», как выражается Толстой, между людьми, из которых слагается жизненный процесс, определяются этими тайными соотношениями, — и тем вернее, что каждый человек есть единое целое, что в нем все стороны духа и тела (для Толстого, как для Поля Валери, это — одно и то же, хотя он и не сознает этого; с точки зрения старой философии легко может поэтому показаться — как показалось Мережковскому, что Толстой «слеп на духовную сторону жизни») покоятся на общем принципе, на его «монаде». Это становится особенно наглядным при рассмотрении «серий», в какие слагаются в больших романах Толстого отдельные индивидуальности. Напр.: Каренин, Кознышев[10], — две разновидности бесплодия. Ср. отношения Каренина и Анны с неспособностью Кознышева полюбить Вареньку, такой же «пустоцвет», как и сам он (ср. Соня из «Войны и Мира»), к которой он, однако, как-то вяло и бессильно тянется, как и она к нему (ср. «духовную любовь» между Карениным и гр. Лидией Ивановной, которая в свою очередь как-то напоминает г-жу Шталь, с которой связана Варенька). У Каренина, после уходя Анны, неудача по службе, как у Кознышева — провал книги. С другой стороны, Кознышев включается в одну серию со своими братьями — Николаем и Константином Левиными: Николай — трагическая духовность, необузданный «пневматизм», Константин — равновесие «пневматичности» и разума, Сергей Иванович — преобладание интеллекта; «духовность» сведена к простоту благородству в отношениях к людям. Этой серии аналогична серия братья и сестры Ростовы, которые располагаются в порядки убывающей интеллектуальности и возрастающей духовности: Вера умна и образована, но совершенно бездушна; Николай считает долгом интересоваться тем, что интересует «умных людей», в деревне привыкаете к чтению, «доставлявшему ему особого рода удовольствие и сознание того, что он занять серьезным делом»; Наташа — никогда ничего не читала и вряд ли когда-либо действительно «думала»; Петя — весь чистый, жизненный порыв, чистая духовность. Показателем духовности является у Ростовых музыкальность — у Пети выраженная в наивысшей степени (его ночь перед смертью). Замечательно, с какой аккуратностью, в своем конспекте к «Войне и Миру», Толстой отмечает отношение к музыке каждого из намеченных им лиц. Музыкальность здесь служит общим мерилом «симпатичности» каждого лица, что в свою очередь строго соответствует степени его «жизненности» в смысле напряженности жизненной энергии. Большинство лиц еще не определилось и не похоже на будущих носителей соответствующих имен, или исполнителей соответствующих ролей. Но Наташа («Наталья») уже представляется верным контуром самой себя. О ней в рубрике «поэтическое» сказано: «музыкой обладает, понимает и до безумия чувствует». И тут же, в той же рубрике, прибавлено: «вдруг грустна, вдруг безумно радостна». Здесь уместно вспомнить шопенгауэровское определение музыки, как самой «чистой» Воли: логическое же начало у Ростовых есть как бы чужеродная примесь к их «идее», к их родовой, если так можно выразиться, энтелехии[11]. Николай сознательно отбрасывает свою способность рассуждать, когда что-либо захватывает его за живое, когда он спорить с товарищами в Тильзите и — в Эпилоге — когда беседует с Пьером о планах Тайного Общества. Наташе не нужно понимать внутреннюю жизнь Пьера: она ее просто приемлет как часть Пьера, т.е. как часть самой себя. Замечательно, что самым «чистым» представителем «Ростовского» начала является самый младший. Природа словно делает опыты, все более и более удачные. Петя — завершение, исчерпание ростовских «возможностей» до конца. Ему и полагается всецело выразить себя в смерти — stirb und werde — к которой он стремится безотчетно, как гетевская бабочка к огню. На воспоминание о стихотворении Гете «Selige Sehnsucht» навел меня сам Толстой:
«...лошадь, набежав на тлевший в утреннем снеге костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова сего не шевелилась»
— последние трепетанья полной жизни бабочки, сгорающей у фонаря:
— auch! und in derselben Stunde
— bist du, Schmetterling verbrannt!..[12]
Несколько иное соотношение обоих начал представляет третья серия: старый князь, кн. Андрей, княжна Марья, поскольку здесь интеллектуальное начало является не посторонней — и потому ненужной и несколько смешной — примесью, но самой сущностью «породы» Болконских; причем это начало не исключает «пневматического», хотя по-разному у каждого из членов серии борется с ним.
Какая тайная связь существует методу этими двумя коллективными личностями — Ростовыми и Волконскими? Почему как-то нужно, чтобы они сочетались? И почему именно так, как это произошло? Почему и здесь «Природа», или «Жизненный порыв» (нет слов для рационального выражения этих реальностей, — и не может быть; Бергсон вынужден говорить уподоблениями, Толстой символами эпического повествования) начинает с неудачного опыта (кн. Андрей и Наташа) и только позже <нападает» на «нужную» комбинацию? И почему именно эта комбинация была «нужной»? Понять это можно только так, как поняла старая Графиня, — не умом, не рассуждением, именно благодаря своей ограниченности, ограниченности своим семейным кругозором. У Толстого «семьи», «породы» — реальные личности. «Предмет» его больших романов (в особенности «Войны и мира», в значительно меньшей степени — Анны Карениной) — своеобразная жизнь этих «больших» личностей, их формирование, рост, сращивания, «кристаллизация» и — распады. Андре Жид, в «Фальшивомонетчиках», говорить, что процесс распада, décristallisation, еще никогда не был предметом художественного изображения. Сам он дает там же потрясающее изображение этого процесса (чета Ла Перуз). Но он словно забыл о Толстом: отход от семьи — и от жизни — старого князя, старой графини, бабушки «Детства» и «Отрочества», предсмертное «отъединение» от Ростовых и от Болконских кн. Андрея, смерть Ивана Ильича. Что у Толстого поразительно — это всегда двойная мотивированность каждой смерти: художественная и житейская. Известен его рассказ о том, как он, уже очень подвинувшись в работе над Анной Карениной, вдруг, неожиданно, почувствовал художественную необходимость покушения Вронского на самоубийство, что в первоначальный план вовсе не входило. Известно также, как лишь постепенно, в процессе работы над композицией «Войны и мира» выяснялось для него, что кн. Андрей не должен быть убить сразу под Аустерлицем, что он должен быть сыном кн. Болконского и женихом Наташи. И вот оказывается, что все это «нужно» и в т. сказ. житейском плане «нужны», в числе всего прочего, и смерти. Для того чтобы княжна Марья и Николай могли в своем лице осуществить комбинацию «Болконские-Ростовы», нужно, чтобы «вовремя» умер старый князь, чтобы умер кн. Андрей. На этих двух величайших для нее скорбях зиждется «счастье» княжны Марьи. «Природа» не жаднеть материала для своих опытов. Смерть Пети нужна эстетически, ибо только в смерти он может себя «реализовать» (согласно Чеховскому художественному правилу: раз в рассказе упомянуто ружье, оно должно рано или поздно выстрелить) — без своей смерти он был бы ненужным «дублером» Николая и Наташи; но оказывается, что она нужна и «житейски», — чтобы вернуть к жизни Наташу. Воля к жизни, которой Петя был полон, как бы «перелилась» в Наташу.
Всякий логической «момент», как таковой, сплошь однороден, резко ограничен и абсолютно непроницаем. Таковы герои Достоевского. Они не растут, не развиваются — да у них и времени не хватило бы на это: не случайно ведь «романы-трагедии» Достоевского подчинены правилу «единства времени» — и никак не «влияют» друг на друга, а только «взаимодействуют», «толкают» одни других на те или иные мысли, решетя, поступки: беру нарочно эти глаголы в кавычки, чтобы вер путь им их конкретные значения. Когда в одном и том же «действующем лице» Достоевского сведены несколько «моментов» — а это всего чаще, — то происходит его «расщепление». Вот почему, как это очень тонко замечено Б. А. Грифцовым, переделки романов Достоевского для сцены являются их «упрощением»; чтобы избежать этого упрощения, надо «было бы поручить каждую роль нескольким актерам: «персонажи» Достоевского не столько «люди», сколько «узлы сил» («Теория романа», 1927, с. 197). Когда борьба моментов достигает предельного напряжения, происходит подлинное «раздвоение личности», отделение от «лица» его двойника-антогониста («черт» Ивана Карамазова)[13]. Но это не имеет ничего общего с перерождениями одной и той же личности в процессе ее роста. Достоевский всю жизнь стремился написать подлинную историю человека («великого грешника», Алеши, «Подростка», Раскольникова), да так и не написал. У Толстого, в противоположность Достоевскому, люди — не «персоны», но живые конкретности, сращивающиеся в новые, более обширный, конкретности, семьи, народы — не «моменты», а монады, «представляющая» все эти большие конкретности. «Завязка» сложных отношений между героями В. и Мира приходится на «завязку» отношений между Россией и Наполеоновской Империей. Следующая стадия: Тильзит, неудачная попытка сближения России и Франции и новая натянутость; на этот исторический момент приходится «ошибка» Ростовых-Болконских, неудачный опыт комбинации кн. Андрей — Наташа, осложняющийся параллельным — и столь же обреченным на провал — опытом комбинации Николай-Соня. Затем 1812-ый год, высшая точка национальной трагедии. «Монады» ее «представляют» по своему: разрыв кн. Андрея с Наташей, его смертельное раненые, плен Пьера. Далее — освобождение России, «возрождение» Пьера и Наташи. Все соединено со всем символическими соотношениями[14]. «Судьба» на каждом шагу дает предзнаменования и предостережения, людям, однако, невнятные. Знал ли Николай Ростов, когда травил волка в Отрадном, что это он воспроизводит peranticipationem ту кавалерийскую атаку, в которой он чуть не убьет французского офицера? Волк затравлен, схвачен и связан:
«Когда его трогали, он вздрагивал завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех».
«С чувством, с которым он несся на перерез волку, Ростов ...скакал наперерез расстроенным рядам французских «драгун. ...Лицо его (плененного французского офицера)... было самое простое, комнатное лицо... Он ...не спуская испуганных голубых глаз смотрел на Ростова».
Ср. еще детали этих же эпизодов:
«Данила уже лежит в середине собак на заду волка...» «Через мгновение лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера...»
Знал ли Вронский, что он сделал, одним неловким движением сломав спину Фру-Фру? «Она (Фру-Фру), затрепывалась на земле у его ног, как подстреленная птица». И Анна, увидев, как упал Вронский, «стала биться, как пойманная птица». Кн. Андрей бросает свою беременную жену в Лысых Горах, сам уходит далеко от нее, повинуясь своей, мужской, судьбе; смертельно раненый под Аустерлицем, он, однако, выздоравливает и возвращается домой, чтобы закрыть глаза жене. Но он не внемлет этому предупреждению: он бросает Наташу, уезжает заграницу и уж больше не видится с нею до того момента, когда она входить ночью к нему, умирающему. Ангел смерти несколько раз задевает Петю своим крылом. Возвращение Николая, Наташи и Пети от дядюшки в Отрадное: «Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку». В Москве его чуть не задавили, когда он ходил смотреть Царя. Николай в ночь перед Аустерлицем уже «предвосхищает» последнюю ночь Пети:
«Ему показалось, что было светлей. В левой стороне видится пологий, освещенный скат и противоположный черный бугор... На бугре этом было белое пятно, которого никак не миг понять Ростов; поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома. Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно быть, снег — это пятно; пятно — unetache, думал Ростов. «Вот тебе и не таш. Наташа сестра, черные глаза. На... ташка» и т. д...
«Петя должен был бы знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги…; что большое черное пятно направо — караулка, и красное яркое пятно внизу налево — догоравший костер; что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, «был огонь, а может быть, глаз огромного чудовища...»
И Петя на границе иного мира и не грезить ни о чем земном.
Кн. Андрей, смертельно раненый под Бородином, попадает на перевязочный пункт:
«Все, что он увидел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление, обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад, в этот жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд по смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair à canon, вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас».
Так как каждая жизненная форма есть только часть Все-жизни, то «судьба» и «характер» совпадают и ничто не происходить по «случайному стечению обстоятельств», ибо «характер» то же самое, что и «инстинкты», действующий в мире животных так, что со стороны может показаться, будто он сам создает «стечение обстоятельств». Николай Ростов не участвовал в Бородинской битве. «Случайно» он был в это время отправлен начальством в командировку. Под Бородином ему было бы нечего делать. Ту меру героизма, которая была ему отмерена, он уже проявил под Шенграбеном. А умирать ему было еще рано. К тому же Бородинская битва была скорее эффектным и «возвышающим душу», нежели практически нужным событием, событием не «в характере» Николая.
Рационалист, диалектик разлагает жизненный процесс на отдельные «моменты», из коих каждый мыслится им самостоятельным целым, он мысленно замораживает поток жизни и разрезает его на куски; реальную длительность он заменяет построяемым умственно «кинематографическим», по великолепному выражению Бергсона, временем. Мистик, непосредственно переживающий Все-жизнь, не нуждается в этой фикции мертвых, неподвижных точек, либо сосуществующих в «пустом» пространстве старой физики, либо сменяющих одна другую в «кинематографическом» времени рационалистической философии. Как невозможно нацело отъединить отдельных людей друг от друга и от «обстановки», «среды», «эпохи», так невозможно провести разрезы в реальном времени. Обе невозможности в сущности являются одною и той же: потому-то и нельзя ничего отъединить от Всего, что все живет и, следовательно, участвует в общем движении.
«Куда бы мы ни направляли движущийся корабль, впереди его всегда будет видна струя рассекаемых им волн. Для людей, находящихся на этом корабле, движение этой струи будет единственно заметное движение. Только следя вблизи, момент за моментом, за движением этой струи и сравнивая это движение с движением корабля, мы убедимся, что каждый момент движения струи «определяется движением корабля, и что нас ввело в заблуждение то, что мы сами незаметно движемся. То же самое мы увидим, следя, момент за моментом, за движением исторических лиц (т.е. восстановляя необходимое условие всего совершающегося — условие непрерывного движения во времени) и не упуская из виду необходимой связи исторических лиц с массами» (Эпилог «Войны и мира»).
В другом месте В. и М. он говорит — еще ближе к Бергсону:
«Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий и так, что никогда, ни в какую минуту он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновенье за мгновением, вырезается в свое значение».
Поэтому нельзя действовать по целям:
«в исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносить плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью».
Монада «представляет» Universum «смутно» и «нерасчлененно». Из этого Толстой делает вывод, от которого бы шарахнулся Лейбниц: самое надежное познание и — инстинктивное, смутное, безотчетное. Кутузов оказывается мудрее ученых немецких стратегов, и старая графиня всегда права в своих ожиданиях, опасениях и желаниях. Кто действует по целям, — всегда обманывается. Николай Ростов живет «узкими» интересами собственными, своего эскадрона, своей семьи, — и оказывается полезнейшим человеком.
И, однако, существует какой-то Мир, закрытый для Николая Ростова. В каком-то смысле княжна Марья и Пьер «ценнее» и выше Николая и Наташи и нужны для их «восполнения». Что это за мир и в каком отношении он находится к «жизни»? Почему для проникновения в него требуется известная степень не только «пневматического», но и интеллектуального развиты (Пьер и Болконские не только духовно «ценнее», но и просто умственно неизмеримо выше Ростовых), и почему в то же время попытка проложить рациональным путем какой-либо мост между этим миром и «жизнью» обязательно терпит крушение (кн. Андрей, масонство Пьера)?.. Камень за камнем, глава за главой, воздвигалось сложное и величавое сооружение теодицеи «Войны и Мира». И вдруг, в венчающем его эпилоге появляется слабеньки мальчик Николенька Болконский, любящий дядю «с оттенком презрения» и тем самым ставящий всю теодицею под знак вопроса...
***
Окончив «Войну и мир», Толстой пробует вдвинуть свое создание в еще более широкие, отчасти уже раньше намечавшиеся эпические рамки: он берется за Петра и возвращается в то же время к декабристам. И неожиданно, повинуясь художественному инстинкту, бросает все это и пишет Анну Каренину. Дистанция, с которой он смотрит здесь на жизнь, значительно сокращена. Народного, национального с нее уже не видно. «Шестидесятые годы и освободительная война представляются уже как нереальности, как выдумки «умничающих» людей. Россия, как жизненная форма, ушла за горизонт. Предельной конкретностью является семья — и по начальным словам романа можно заключить, что семьи и будут в нем «действующими лицами». Но со взятой им дистанции и семья оказывается слишком велика: Щербацкие, Левины, 0блонские представляются нам скорее знаками, нежели подлинно формами жизни. «Действующие лица» Анны Карениной — люди. И при таком «подходе» к жизни Толстому открываются в ней новые, уже решительно не укладывающиеся в его теодицею, стороны. Уже в «Войне и мире» Толстой затронул один весьма темный вопрос. Взаимопритяжения «пород» как-то связаны с отталкиваниями. Есть какое-то сродство между влечением Николая Ростова к княжне Марье и его антипатией к племяннику, а раньше к кн. Андрею, антипатией, которая не мешает ему мечтать о дружбе с тем же кн. Андреем. В другом, к которому меня тянет, я ищу того, чего нет во мне самом: но для того, чтобы я искал этого восполнения, необходимо, чтобы я дорожил тем, что во мне есть, чтобы я оберегал мою самость, стремился «утвердить» ее. И потому и в другом я ищу и ценю его самость, его единственность и неповторяемость. С этой точки зрения объясняется «недостаточность» и в конечном итоге ненужность «пустоцвета»-Сони, — невзирая на всю ее доброту. Дело, следовательно, не совсем в том, о чем, по поводу той же Сони говорит Л. Шестов: «Как в «Войне и мире», так и в «Анне Карениной» гр. Толстой не только не верит в возможность обмена жизни на добро, но считает такой обмен неестественным, фальшивым, притворным, в конце концов, обязательно приводящим к реакции даже самого лучшего человека»[15]. Соня, по толкованию Шестова «пустоцвет» в том смысле, что у нее «нет эгоизма»; это именно имеет в виду Наташа, когда она применяет к Соне евангельская слова о «неимущем», у которого «отнимется». «Эгоизм» — неподходящее слово. Если желать для себя счастья — «эгоизм», то почему у Сони «нет эгоизма», а у кн. Марьи он есть? Не «эгоизма» нет у Сони, но «самости». Потому-то и Николая она любит не как личность и не за его «самость», и ее чувство к нему легко переходить в привязанность к «дому» Ростовых, — именно к «дому», а не к «породе», привязанность к той сфере жизни, вне которой она ничего не знает, — нечто подобное не различающей к не отделяющей &laq |