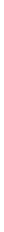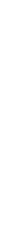ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРНОВ
СТИХИЯ СКИТАЛЬЧЕСТВА У КОРИФЕЕВ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
8 июня 1880 года на торжественном заседании Общества Любителей Российской словесности справлялся Пушкинский юбилей. Почтили празднество своим присутствием и западник Иван Сергеевич Тургенев, и славянофил Иван Сергеевич Аксаков. Сменяли друг друга мастера юбилейного красноречия; в меру витийствовали, в меру восхваляли, в меру печалились. Все было пышно, юбилейно и чинно.
Mais quelqu'un troubla la fete: произошло нечто, сломавшее рамки официальных программ.
Это было выступление Достоевского.
Он взошел на кафедру — и она превратилась в трибуну. "Не прошло и пяти минут, — рассказывал потом Глеб Успенский, — как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого без различия присутствовавшего на собрании".
Какие-то невидимые нити протянулись от него к слушателям. В него вперились все глаза, каждое его слово ловилось напряженным слухом в мертвой тишине, в которой, казалось, можно было расслышать полет мухи. Потому ли, что во всей зале не было человека, равного ему по силу его мятущейся человеческой души? Потому ли, что за Достоевским виднелась тень его прошлого — политического преступника, в свое время на эшафоте уже простившегося мысленно с жизнью — и в последний момент помилованного к каторге? Потому ли, наконец, что трагедия Достоевского особенно живо напомнила аудитории трагедию самого Пушкина, — вечно поднадзорного, друга декабристов, то и дело призываемого под стеклянные очи русского Августа ("но Август смотрит сентябрем" - комически жаловался поэт друзьям) и затравленного придворной камарильей? Потому ли, что чем-то "нездешним" веяло от всего облика оратора, с изрезанными рытвинами морщин лбом, с глубоко посаженными, мрачным светом горящими глазами?
Достоевский думал сам (по-видимому, неправильно), что это его изобразил Некрасов в поэме “Несчастные”, под видом загадочного арестанта — “Крота”, вдруг почувствовавшего в себе ветхозаветного пророка:
Корит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово, как гроза,
И как-то бешено и чудно
Горят глубокие глаза...
Нам неизвестны другие ораторские выступления Достоевского — да ему и недолго оставалось жить после "лебединой песни" своей на Пушкинском юбилее. Может быть, что он так и сошел в могилу, не распознав в себе "оратора Божьей милостью": из тех, которые не вырабатываются, а рождаются, чтобы "глаголом жечь сердца людей". Но возможно также, что он был "оратором единственной речи", как бывают "авторы единственной книги", до такой степени исчерпывающие в ней свою духовную сердцевину, что им ничего более не остается, как давать ослабленные перепевы все того же "лейтмотива" всей жизни. Так или иначе, но своды зала "Общества Любителей" сотряслись от "никогда еще в нем не слыханных рукоплесканий", то была овация, граничившая с "идолопоклонением". Недаром И.Аксаков заявил, что была "не речь, а событие", недаром вокруг оратора, еще неостывшего и нахлынувшего вдохновения, теснилась толпа экзальтированных девушек; а юноша, прорвавшийся на эстраду, чтобы пожать Достоевскому руку, прикоснулся к ней и упал в обморок...
Ясно, что Достоевский задел в молодых сердцах какую-то трепетную, туго натянутую струну. Что же такое сумел он сказать о Пушкине?
Он говорил, что Пушкин дорог нам прежде всего не четкостью музыкального ритма, не блеском воображения, не изумительной простотой, словно родниковой кристальностью поэтического стиля. Это — много, но это — еще "не то". Прав был Гоголь, разгадавший в Пушкине "явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа"...
— "и пророческое!" вдруг с особым ударением и особою силою не произнес, а загремел Достоевский — "новым направляющим светом озаряющее темную дорогу истории нашей. В этом смысле Пушкин для нас — пророчество и указание!"
Так высоко подняв весь тон трактовки пушкинской темы, Достоевский ведет далее слушателей от неожиданности к неожиданности. Из всей поэзии Пушкина он выделяет “Цыган”, где, — твердит он, — заложена "сильная и глубокая, вполне русская мысль". Нигде не найти "такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания" — присущей СКИТАЛЬЧЕСКОЙ стихии русского духа.
"В “Алеко” Пушкин уже отыскал и гениально отметил тип несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем... Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле, поселившийся.
Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще надолго, кажется, не исчезнут".
Но если прежние Алеко уходили за цыганами и за их таборами, расшифровывает свою мысль Достоевский, то теперь они уходят в революцию, в социализм: все равно: "они ходят с новою верою на с другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что в делании своем достигнут цели своей и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо — тут голос Достоевского окреп и зазвучал торжественнее — "русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться — на меньшем он не примирится!" Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, сути нашего верхнего, над народом стоящего общества... Он первый угадал его гениальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его в нашей грядущей судьбе".
Новая овация была ему ответом, — Достоевский в глазах молодежи уже вырастал в "пророка русской революции" (как впоследствии и назовет его Мережковский). Заканчивал Достоевский ярко "народническими" нотами.
"Та же восприимчивость к пониманию чужого народа, его души, его радостей и печалей — уверял он — та же восприимчивость свойственная вдохновенному выразителю русской души, — свойственна и всему русскому народу; печали и радости, волнующие жизнь европейского человека, его страдания, — для каждого из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей!" Это ли не залог того, что именно русскому народу суждено "внести в человеческую семью умиротворение", — ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и всечеловечности?"
Так говорил Достоевский: пушкинский праздник есть праздник современных борцов за всемирность и всечеловечность Алеко? Но разве сам Пушкин этой стилизацией собственного имени “Александр” не подчеркнул автобиографического элемента в мыслях и переживаниях героя “Цыган”? И разве мы не знаем, что сам он, в Бесарабии, однажды на несколько дней пропал, забыв служебное поручение, с цыганским табором, — как позднее, из Царского Села, с мужицким обозом? Конечно, не от Достоевского могла укрыться автобиографическая струя и в другом, на его взгляд “самом гармонически совершенном произведении пушкинского гения” — в Евгении Онегине. Достоевский прямо утверждает: в нем “тот же самый Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемом, реальном и понятном виде”. Прибавим мимоходом, что свой Алеко есть и у Льва Толстого: юнкер Оленин, только среди “Казаков” вместо “Цыган”.
Алеко отряхнул от ног своих прах того общества, в котором Любви страшатся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег, да цепей.
Этот язык — почти алгебраичен; так могло быть вчера, как и сто лет тому назад, и под любым градусом широты и долготы. Совершенно иное — Евгений Онегин: он дитя своего века и своей среды. Он — преемник Чацкого, которого, по разбросанным у Грибоедова намекам, можно считать сотрудником опального Сперанского. Чацкий тоже осужден на “скитальчество”, осужден “искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!”
Пушкину была нужна, по меньшей мере, такая же степень уточнения и самого образа Онегина, и природы его морально-общественной трагедии, какая удалась Грибоедову с Чацким. Нужна — и невозможна. Достоевский поэтому в действующих лицах поэмы увидел простые символы. Грибоедовская Софья может считаться символом тогдашней России; то же — как зорко подметил Достоевский — можно сказать и о Пушкинской Татьяне. В ее лице сама Россия сначала увлекается, потом разочаровывается в новом, более модернизированном воплощении “того же Алеко”. Однако, в его уравнении: “Алеко равен Евгению, равен Александру Пушкину” надо из средней величины вычесть не только ум и гений Пушкина, но и не менее изумительный его темперамент. Недаром же Пушкиным то и дело “овладевало беспокойство, охота к перемене мест, — весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест”. Недаром он все порывался куда то, вон из тесных рамок Петербургской империи: то на Кавказ, под “перестрелку за холмами”, то в Западную Европу, то в Китай, куда он в 1829 году формально и конечно, безуспешно просился, и даже мечтал очутиться там, откуда пришел его род:
Под небом Африки моей.
Евгений Онегин, хотя Пушкин и уверяет порою, что он был наделен оригинальным и едким умом, прежде всего — ленивый и барственный баловень судьбы, “всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных”; а Пушкин, весь век бившийся, как рыба о лед, о безденежье и никогда не вылезавший из долгов, был совершенно исключительным явлением по своей изумительной умственной энергии и редкой работоспособности; про него можно было сказать: “и жить торопится, и чувствовать спешит”; от Онегина лежала дорога к Обломову; Пушкин был живою антитезою славянской обломовщины.
Однако не следует забывать, что Онегин остался у Пушкина недорисованным по тем самым “независящим обстоятельствам”, по которым Пушкин должен был и предать сожжению — десятую песнь своей поэмы. В свое время Писарев жестоко разделался с Онегиным, а через его голову — с Пушкиным; знай он то, что знаем мы теперь, после трудов Брюсова, Щеголева, Гофмана, Гершензона, Лернера и прочих пушкиноведов, он должен был бы сам сконфуженно перечеркнуть девять десятых своей нашумевшей в то время статьи. Теперь мы знаем: Пушкин вообще думал, что для Онегина “о печати и думать нечего”. Мы знаем, что в неискалеченном тексте Пушкин вводил своего героя в круг декабристов
Где Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры,
Как гласил уцелевший и ныне разобранный “зашифрованный отрывок” из преданной сожжению части поэмы. Только в нем — ключ к пониманию “путешествия (первоначально _ странствия) Евгения Онегина”. Оно оставлено в брульонах, в отрывках с явно демонстративною целью: показать публике, что от широкого замысла волею судеб остались только “рожки да ножки”.
Онегин, не находящим себе места скитальцем мечется по всей России. Онегины, эти “овцы без стада и без пастыря” в пережившей разгром декабристов России везде — неприкаянные, изящные и умные ненужности, везде преследуемые этой своей ненужностью, как неотступною черною тенью, везде с одним и тем же рефреном: “тоска! тоска!”... Мимоходом заметим: по вопросу об автобиографическом элементе в Онегине следует помнить, что этот рефрен взят из письма самого Пушкина — к Рылееву...
У Пушкина есть одно, не часто цитируемое стихотворение: “Однажды, странствуя, среди пустыни дикой...” Хотя оно является переводом из английского мистика Буньяна, но поэт вложил в него свои переживания. Все оно покрыто какой-то загадочною дымкой. Того, от чьего лица идет речь, — терзают “души пронзенной муки”. Пронзила ее “великая скорбь”, скорбь незнания — что суждено ему и что ему делать; все его родные, близкие, видя и слыша какие вопли испускает он, и как “в тоске ломает руки”, давно уже от него отступились, —
Как от безумного, чья речь и дикий плач Докучны, — и кому суровый нужен врач.
Только побег от протоптанных дорог, только “странствие среди пустыни дикой” приводит его к порогу разгадки. В нем передано чувство духовной смуты и тоски по целеустремленности жизни. Человеку надо озарить сумерки существования “неким светом”, на который можно идти, как евреи шли за своим столпом облачным. Но эта старая метафора здесь осложняется почти физически-осязательным ощущением своего отщепенства, отрыва от родной среды, бегства, странничества, мы сказали бы: Агасферова Начала.
Но грозовая туча — 14-ое декабря — отшумела и разметана, — тем безнадежнее и душнее атмосфера, словно душа “за решеткой в темнице сырой”, как томящийся в клетке орел — чудится Пушкину — “Зовет меня взглядом и криком своим — И вымолвить хочет — давай, улетим! — Мы вольные птицы: пора, брат, пора!”
И долго-долго поэтическая мечта Пушкина рисует ему в заманчивых чертах этот отлет, этот побег, и сам он рисуется себе в чертах одного из своих героев: “Отступник света, друг природы, — Покинул он родной предел — И в край далекий полетел — С веселым призраком свободы. — Свобода. Он одной тебя — Еще искал в подлунном мире...”.
Но пройдет и этот период, и среди рабов он сам себя почувствует уставшим от бунта рабом: а программа свободы съежится до размеров тихой пристани; “— На свете счастья нет, а есть покой и воля — Давно завидная мечтается мне доля, — Давно, усталый раб, замыслил я побег — В обитель дальнюю трудов и чистых нет”
Максимализм былых требований от жизни сменяется самым скромным минимализмом. Свобода для всех? Права человека? Мечты, мечты, где ваша сладость? “Народы тишины хотят, и долго их ярем не треснет”. Дай бог себя самого отстоять от деспотических покушений, найти хоть скромный уголок, где тебя предоставят самому себе... “Вот счастье! вот права!”
Если нужны биографические комментарии к этим поэтическим мотивам, то их сколько угодно в его переписки с друзьями. Оборотной стороной скитальчества у него является там чувство обреченности. В Пушкинском музее есть его рисунок виселицы с 5 повышенными декабристами, и припиской: “и я мог бы, как тут...”
Смерть или побег: эта альтернатива давно предчувствовалась Пушкиным. Его иногда упрекали в односторонне-сатирическом отношении к России; он только пожимал плечами: “У меня затрещала бы набережная, когда бы я только коснулся сатиры!” Брату Льву он раскрывал себя целиком: “меня тошнит с досады: на что ни взглянешь, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли тому быть?” К Е. М. Хитрово он пишет: “и среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века!” Брату он прозрачно намекает на свое желание “взять потихоньку трость и шляпу”... “Святая Русь мне становится невтерпеж” — еще прямее пишет он в другой раз: “ubibene, ibipatria (родина там, где хорошо живется). А мне, — вот там, где растет трын-трава, братцы!” То был намек на одно подпольное стихотворение того времени[1], и означал он намерение перебраться на родину Вольтера, родину свободы. Кн. Вяземскому он прямо пишет: “ты, который не на привязи, — как можешь ты оставаться в России?”... И предупреждает, что о нем еще могут услышать: “он удрал в Париж и никогда более в проклятую Россию не вернется...” Наконец, это настроение подымалось в нем до самых высоких нот: “я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног!..”
Мы сделали бы, однако, ошибку, если бы приняли эти слова слишком буквально. В психологию русского духовного скитальчества вовсе не входит “моральная безотцовщина”. В том же письме к Вяземскому мы находим признание, что ему было, однако же, совершенно невыносимо слышать, когда сколько-нибудь похожие отзывы о России раздавались из уст иностранца. Ясно: “проклятая Россия!” есть не вскрытие его глубинного к ней отношения, а просто — гневное богохульство сквозь скрежет зубовный. Мы знаем, что Пушкин отечеством своим гордился до эксцессов, — как в “Бородинской годовщине” или в отповеди “Клеветникам России”. Изречение “ubibene, ibipatria” было в его устах лишь вызывающе-циническим парадоксом. Нет, душе подлинного “скитальца-страдальца” русского поверхностно-светский “космополитизм” чужд. В любом конце мира Россия останется навеки врезанной в его сердце; Пушкин знает, что не перестанет и среди тропиков,
Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России.
Но Россия не баловала его. В раздражены на облетавшие всю Россию эпиграммы, Александр 1 хотел замуровать его в Соловецкий монастырь. Николай 1 нашел месть более изощренную: превратить его в собственного придворного поэта. Отсюда и берет свое начало та известная личная трагедия поэта, в которой не было пощажено ни его личное достоинство, ни его свобода, ни его семейная честь: все было оклеветано, унижено и забросано грязью. Прав Валерий Брюсов: Пушкин “почти что искал смерти, как единственного выхода из тисков, в которые его загнала милость царя”. Это “почти что” можно опустить. У Пушкина созрело сознанье, что “во всех стихиях человек — тиран, предатель или узник”; он был узником, его окружали предатели, и над всем и всеми парил холодный, бездушный тиран. “И смерти мысль мила душе моей”, бестрепетно выводило пушкинское перо. Ибо “блажен, кто праздник жизни рано — Оставил, не допив до дна — Бокала полного вина”: ведь на дне, наверно, смертельный яд.
В трехтомном сборнике статей и речей Ключевского есть удивительная по художественной прелести речь “Предки Евгения Онегина”. Он нисходит в глубь истории по этапам последовательных поколений, в эпоху каждого из них прикидывая — как выглядел бы тогдашний “Евгений Онегин”? Мы, однако, за ним не пойдем и галерею “предков” выхватим из самой жизни.
Вот, например, умер за 200 лет до трагедии декабристов — в 1625 г.— князь А. И. Хворостинин. Был он горд: “в разум себе в версту не поставил никого”; по обыску были у него найдены “латинские книги”. Началось у него с того же, с чего у Пушкина с его “Гаврилиадой”: “в вере пошатался и православную веру хулил, про святых угодников божьих говорил хульные слова”. Хотел отпроситься или даже бежать — совсем как творец Онегина — в чужие края (Литву). Мысли свои поверял бумаге — в рукописях его найдены “скука и тоска по чужбине, презрение к доморощенным порядкам”. Писал: “в Москве людей нет, все народ глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут все ложью”; осмеливался дерзко говорить даже “о деспоте русском”. Был упрятан в монастырь (как собирался упрятать Пушкина Александр 1), но потом, очевидно, сломленный и смирившийся — был возвращен, восстановлен в дворянстве и получил даже доступ ко двору, но скоро былунесенсмертью.
А вот следующий — Ордын-Нащокин, которого многие ученые считают “первым государственным человеком российской истории”. Он “во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь”. Но волею был своенравен: осмелился в 1671 г. отказаться исполнить одно из царских предписаний; постригся в монахи; но демонстративного побега от жизни в монастырь долго не выдержал и в 1680 г. скончался. Или Опочинин: ярославский помещик, большой вольнодумец. Сам порвал нить своей жизни, оставив предсмертную записку, полную “космополитической скорбью”. В ней писал: “отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить своенравно свою судьбу”. Оставил распоряжение отпустить на волю две семьи своих дворовых и раздать крестьянам барский хлеб. “Не знаю — трогательно признался он — кому завещать мои книги, сокровище, которое питало меня в жизни; оне только и держали меня еще на земле”. И предал их — огню...
Все это были прародители Онегина по духу — и по благородному сословию. Но в той же второй половине семнадцатого века “скитальческий” дух обуял и более плебейский по происхождению служилый класс. Вписавший свое имя в историю русского самосознания Котошихин, достаточно известный широкой публике еще по гимназическим учебникам русской словесности, кончил жизнь настоящим Агасфером. Подьячий посольского приказа, “человек ума несравненного”, он не выдержал того же, чего не могли выдержать Хворостинины, Ордын-Нащокины, Опочинины. Он сбежал в Польшу, оттуда перекинулся в Германию, из Германии — в Швецию. Византийское православие он отверг и перешел в протестантство. Но он был человеком бурных страстей, имел в Стокгольме связь с замужней женщиной, в столкновении с ее мужем убил последнего и расплатился за это собственной многомятежной жизнью.
А вот другой, так сказать, встречный случай — Юрия Крижанича. Когда Котошихины отрясали прах России с ног своих, — он, наоборот, находясь в самом сердце Европы, вздумал “вздыхать о сумрачной России”. То был ранний панславист по настроению, хорват по происхождению, католик по религии, заклятый враг “чужевладства, чужебесия и людодерства” по убеждениям. Прилепившись мыслью и сердцем к северной, старшей сестре славянства, он не представлял себе, что его вера у нее будет считаться “латинской ересью”, равносильной “злому неверствию”. Свою западную образованность он понес в страну, где именем церкви твердили: “богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрию”. Можно себе представить, каким оказался он в ней, в конце концов, “незваным гостем”! “Меня называют скитальцем-бродягой” — этими характерными словами жаловался он, но оставался неисправим: веровал и исповедывал право человека и гражданина обрести себе отечество по свободному выбору сердца. Был сослан в Тобольск и, лишь проведя там 15 лет, излечился от своих иллюзий: “выпросился в свои земли”.
Перебирая имена этого скорбного списка страстотерпцев зарождающейся российской интеллигенции, нельзя не остановиться на двух “горных вершинах” русской мысли: на известном украинском философе Г. Сковороде и на великом русском ученом М. ,В. Ломоносове. Их участь была много счастливее тех, о ком до сих пор шла речь. Но вот изумительно-характерные факты. Г. Сковорода, знавший, кроме новых языков, еще латинский и греческий и читавший Библию по-еврейски, никем ниоткуда не гонимый, однако сам вдруг ощутил в себе Агасфера. Вот несколько строк его биографии:
“Сорока лет с небольшим, еще в расцвете сил, Сковорода, отказавшись от всех благ культурной жизни, на которые имел право по своему образованию, берет в руки посох и в образе полунищего странника скитается по деревням и хуторам, живя милостыней и проповедуя”...
При этом невольно приходит на ум целый ряд других, бесконечно более поздних событий: Лев Толстой, его внезапный “уход” из дому на самом закате дней жизни, его агония в безвестном дотоле Астапове, ставшем вдруг средоточием лихорадочно напряженного внимания всего культурного мира. Но это целая особая величественная глава, говорить о которой вскользь невместно...
Одним из излюбленных выражений Сковороды было: “мир ловил меня, но не поймал...” И так же — по крайней мере, на казенной бумаге — обстояло дело с Ломоносовым. Этот гениальный самоучка, приводивший в ужас жрецов Св. Синода своими мнениями о множественности миров; предвосхитивший атомистическую теорию и этим опередивший свое время на 126 лет; сформулировавший под именем “всеобщего закона природы” идею сохранения материи и энергии, и опередивший в химии свое время на полтораста лет; предвосхитивший самого Лавуазье за сорок с лишним лет, — этот гениальный самоучка за семнадцать лет до своей смерти, т. е. в 1748 году — числился... крестьянином в бегах.
Да, сомнения нет. Объявив “скитальца-страдальца” самым характерным явлением истории русской интеллигенции, усмотрев в нем “самую глубь нашей сути”, Достоевский показал себя великим прозорливцем. И если вообще он, по меткой характеристике Айхенвальда, “тяжелой поступью, с блудным лицом и горящим взглядом прошел, бряцая цепями, по нашей литературе, и до сих пор она не может опомниться и придти в себя от его исступленного шествия”, — то его собственное духовное естество было раздвоено, в самых глубинах своих, в стихийной тяге к исконному духовному скитальчеству русской души, и в одновременной искусственной, наносной “вражде до гроба” к нему же.
“Головинского, Достоевского, Пальма за недонесение о распространении письма Белинского и сочинения Григорьева лишить чинов и всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием”. Одного этого чудовищного приговора, эшафота, помилования и прозябания “записок из Мертвого Дома” было достаточно, чтоб для него исчезли все “средние пути”. Либо “Аннибалова клятва” беспощадной ненависти и возмездия, либо — душевное крушение, моральная прострация и принятие своей участи, как перста судьбы и кары неба.
Вспомним из “Возмездия” Блока: “В те годы дальние, глухие — В сердцах царили сон и мгла. — Победоносцев над Россией — Простер совиные крыла. — И не было ни дня, ни ночи, — А только тень огромных крыл; — Он дивным кругом очертил — Россию, заглянув ей в очи — Стеклянным взором колдуна. — И затуманилась она...”
Затуманился и писательский облик Достоевского; но вырваться из колдовского круга к “возмездию” он уже не мог. К тому же, “возмездие” повернулось к нему своей отталкивающей изнанкой в темных очертаниях демонического облика нечаевщины; его он воспринял, как исполнение евангельской притчи о “бесах”, изгнанных Спасителем из безумной и вселенных в стадо свиней, чтобы вместе с ним сгибнуть в пучине морской. Вдохновлявшие Онегина и Пушкина декабристы были отныне для него, как и для Тютчева, — не более, как “жертвы мысли безрассудной”, вообразившие будто их “крови скудной” хватит, чтоб растопить “вечный полюс” самодержавия. От Тютчева он отличался лишь пониманием, что и под ледяной корой может клокотать лава, медленно, но неудержимо подымаясь и грозя извержением. Это извержение — революция — стала кошмаром его души. Достоевский, далее, изведал на себе самом всю могучую притягательную силу социализма; сломить ее он считал невозможным; но он взлелеял мечту ею овладеть, возвещая миру, что у нас есть свой собственный, “русский социализм”, на основе Христова учения в высшей его форме: в правде православной церкви.
Так мысля и чувствуя, Достоевский во второй половине “пушкинской” речи не мог не подвести под только что опоэтизированного им самим “скитальца” своего рода “мины с замедлителем”. Да, отдадим христианскую милостыню нашего сочувствия беспокойному Алеко в его новейшем издании, в Онегине; но истинная героиня нашего романа — это Татьяна: воплощение Вечной Женственности вместе с чистотою веры, цельностью, непосредственностью и бескорыстной преданностью долгу. Что такое Татьяна, как не олицетворение самой России во всей непочатости, свежести неразвернувшихся сил?... Не Россия ли в ее лице хочет отдать себе отчет, что такое, в конце концов, этот успевший смутить ее девственный покой “скиталец”: “ангел ли хранитель или коварный искуситель?...” Продумайте дальше этот, Достоевским вложенный в Пушкинское творение символизм, и вывод дан сам собой: как Татьяна перед святыней алтаря “другому отдана и будет век ему верна”, так и Россия приговорена к своему царю.
Достоевский принадлежал к числу ораторов “словом владеемых”. Подчиняясь “магии слова”, он сам поддался обаянию как созданного Пушкиным образа — так и просвечивающего сквозь него образа самого автора. И образом этим он так увлек всю свою аудиторию, что когда спохватился — было уже поздно. Но при подготовке речи для печати, приходилось дело поправлять. Достоевский должен был приняться за кропотливо-мозаичную работу вставок, смягчений, оговорок. Но тут случилась другая беда: восторженные слушатели речи, подобно Глебу Успенскому при чтении больше не узнавали ее. Но Достоевский был не из тех, кто способен длить недоразумение: он напрямик заявил, что его не поняли, что его “скиталец-страдалец” вовсе не положительный, а, в сущности, отрицательный тип; и, в нашумевшей когда-то полемике с проф. Градовским, он так же страстно развенчал и свел его с пьедестала, как раньше на него возводил. Все эти скитальцы потому-де и скитальцы, что настоящим образом любить Россию не умеют; воображая себя “непонятыми”, они доходят до мстительного ее оболгания. При том же, имея оброчных крестьян, можно скитаться по всем Европам не без комфорта в рессорных каретах и каютах первого класса. Слышно, что иные из скитальцев не дураки скитаться и по местам вроде Bal Mabile; а “духовной жаждою томимым”, говорят, удается таки жажду недурно утолять шампанским лучших марок. И. разбросав при этом случае не мало намеков на Герцена, Тургенева и прочих знаменитых опальных современников, Достоевский приходит к своей цели. По правде сказать, какое-то зерно правды в его озлобленно-язвительных речах есть. Но “тон делает музыку”, а тон у него был тот же самый, что и в граничащих с пасквилем изображениях Тургенева в образе самовлюбленного писателя Кармазинова или Чернышевского в виде самоуверенного пустослова в “Крокодиле”. Достоевский был великий мастер проникновения в глубокие провалы человеческой души; но и в его собственной душе были свои зияющие провалы.
Нельзя, однако, из чувства справедливости не отметить: по отношению к “скитальцам” высшего круга у Достоевского есть неожиданно-частые точки соприкосновения с Некрасовым, которого он вообще недолюбливал. Только последний “то же слово, да не так же молвит”. В поэме “Маша” он выносит приговор “современному герою”: — Книжки читает, да по свету рыщет, — Дела себе исполинского ищет, — Благо, наследство богатых отцов — Освободило от лишних трудов...”.
Этот отзыв Некрасова — предвестие того, что скоро придут менее изящные Базаровы и Волоховы и сдадут всех этих Чацких, Онегиных и Печориных, Рудиных и Агариных в исторический архив. Существует стихотворная “Притча”, которая не могла быть опубликована по цензурным соображениям и принадлежность которой Некрасову иными оспаривалась. В ней изображены “люди, сгоравшие жаждой труда и рвением, сдвигающим горы”: “Связали котомки свои и пошли, — Стыдом неудачи палимы, — И скорбь вавилонскую в сердце несли, — Ни с чем уходя, пилигримы”. Уж эти первые строки устраняют, на мой взгляд, сомнения в принадлежности их Некрасову. Не имея возможности опубликовать “Притчу”, он использовал ее отдельные рифмы и обороты для “Размышления у Парадного Подъезда”.
Но главное “открытие” в некрасовской поэзии для Достоевского это — “скиталец”, словно нарочно по заказу для Достоевского скроенный. Это — “дядя Влас”, отрешившийся раз навсегда от земных соблазнов. Вот он, вполне народный и, в отличие от беспочвенности интеллигенции, глубоко “почвенный” тип. У Власа “сила вся души великая в дело Божие ушла”; таким и должен быть народный проповедник “нашего русского социализма”, совпадающего с правдой православной церкви”. И с пророческим жаром Достоевский провозгласил, как последний свой завет России и мятущейся русской интеллигенции: “Власы спасут себя и нас!”...
Но именно потому, что Достоевский на свой религиозный лад примыкал к формуле крайнего народничества: “не народ учить, а у народа учиться”, — он и настраивал себя особенно беспощадно к “интеллигентам”, полагающим свою сущность в миссии “учительства”. В злых карикатурах на них он был чрезвычайно изобретателен. Таков образ либерала Степана Трофимовича и “Бесах”, образ “благородного приживальщика”. Он тоже мечтает о том, чтобы стать скитальцем: “возьму свою суму и уйду пешком”; и действительно театрально скрывается “с посохом и сумой”, т. е. с тросточкой и чемоданчиком, но уходит недалеко, кстати простуживается в дороге и его возвращают на насиженное теплое место. Еще более издевательски задуман образ тоже приживальщика, “учителя жизни” в то же время тирана своих покровителей — Фомы Опискина. И вот этому человеку, у которого нет ни одного движения души неподдельного, он влагает в уста явные перифразы из “Переписки с друзьями” Гоголя, еще подчеркивая это сходство ссылкой Фомы на “Гоголя, писателя легкомысленного, но у которого бывают иногда зернисты я мысли”. Дело кончается и тут пародией на “скитальца-страдальца”: “Скитальцем пойду я теперь по земле со своим посохом”. Но, конечно, лжепророк развенчивается еще более жалкою комедией fausse sortie, “ухода” с котомкой странника, с тем же финалом, что у Степана Трофимовича из “Бесов”.
Карикатура эта граничит с пасквилем. У Гоголя, конечно, много гиперболического, много лже-романтизма и высокопарной приподнятости стиля. Он весь в противоречиях. Тон его религиозной проповеди порою нестерпимо ходулен. Но противоречия эти — не от фальши, он сам — их жертва. Он заставляет хохотать всю Россию, а сам роняет вздох — “скучно на этом свете, господа!” Пушкин читает его “смешные” сочинения, и говорит: “Боже, как грустна наша Россия!” И сам Гоголь вторит ему: “как много в человеке бесчеловечья!”.
У Гоголя есть бесспорно вдохновенные страницы, пытающиеся вскрыть природу русского “скитальчества”, загадку его не только как скитальчества индивидуального, интеллигентского, но и народного, стихийного, мощного.
“Русь! Русь! Открыто пустынно и ровно все в тебе; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах — твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и широте твоей, от моря и до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не зародиться беспредельной мысли, когда ты сама — без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?...
Это Гоголь праздничный, и над ним исподволь смеется другой Гоголь, сам себе плохо верящий. Проникновенно обрисован русский народ-богатырь, но Гоголя так и подымает оттаскать его за сивую бороду: “О, Русь, Старая рыжая борода, когда же ты поумнеешь?...” Гоголя влечет в Руси “непостижимая, тайная связь”; но он же порой обзывает ее “кацапией” и тщетно пытается, назло ей, возвеличить гетманщину; а покачавшись маятником между ними, в конце концов, лучшую часть жизни отдает заграницы, и в частности — далекой Италии. Ничего его к этому извне не принуждает. Родина, или, если угодно, обе родины принимают его с распростертыми объятиями. Но почему-то он пишет своим друзьям: “с того времени, как ступила нога моя на родную землю, как будто очутился я на чужбине”. Это не просто скиталец, это скиталец двойной, с вечными жалобами: “как тягостно мне существование в моем отечестве” — “какой это тяжелый сон 1” Отравлен ими даже весь его литературный успех — эпохи “Ревизора”: он “хотел бы убежать теперь”. И еще целый ряд моментов, когда ему “повыситься
или утопиться казалось похожим на лекарство или облегчение”.
Но ведь от этого — только один шаг до жгучего вопля души “Записок сумасшедшего”: “Спасите меня! Дайте мне тройку как вихорь коней! Садись мой ямщик, взвейтесь кони и несите меня с этого света! Далее, далее, — чтобы не видно было ничего!!”
Из уст Гоголя слышали мы и о другой тройке — той, на которой обрывается первая часть “Мертвых Душ”, и которая мчит его; снова к каким то туманным геополитическим “прозрениям”.
“И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закруглиться, загуляться, сказать иногда — “черт побери все”, — его ли душе не любить ее? Знать, у бойкого народа ты только и могла родиться: в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем развернулась на полсвета... Не так ли и ты, Русь, как бойкая, необгонимая тройка, несешься? Что значит это наводящее ужас движение? Русь, куда же несешься ты? Дан ответ. Не дает ответа. Летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы”.
Уверовать ли в “необгонимую тройку-Русь”?... Искать ли спасения в тройке, которая умчит прочь от Руси — далеко-далеко, “чтоб не видно было ничего”? В Гоголе все чувства смешаны, весь он — в смятениях. А что бы он сказал, если бы увидел, до чего расскакалась русская тройка теперь; как отшатывались от нее другие народы — чтобы опять к ней вернуться и на нее возложить свои упования!
В тирадах Гоголя есть взвинченность стиля, но морально-психологической фальши нет. Выход померещился ему, как это часто бывает при земном бездорожье, в правде по ту сторону мира: это была тихая пристань, на которой должны были кончиться все метания и скитания. Бог для Гоголя стал небесным Государем, чьею волею Николаевская Россия предназначена стать “Градом новым, спускающимся с небес на землю”; помеха только в несовершенство человеческого материала. О, если бы всякий столоначальник понял, что он, в сущности, чиновник небесного стола; если б каждый помещик научился глядеть на себя, как на высшей волею помазанного отца, пестуна и воспитателя своих крепостных и т. д. — чего бы еще не хватало?
И как только Гоголь все это “постиг”, как только его mania religiosa заставила его уверовать в себя, как в пророка Божия, на все загадки жизни находящего “ответы, которые будут от самого Бога” — так неизбежно он должен был с презрением выбросить за борт все, чем он жил раньше. Сжигая “Мертвые Души” Гоголь только начинал эпоху медленного самосожжения на костре мощного — мощного до изуверства — отрицания “скитальческой” эпохи своей жизни. Он подлинно отверг всего себя, всего прежнего Гоголя. Отчудив всю свою личную волю, вручив ее в руки первого встречного фанатика, отдав ему в добровольную кабалу свой ищущий покорности и страдания разум, он весь замер в аскетическом измождении, в медленной агонии умерщвления плоти: буквально уморив себя голодом.
Поколение 70-х годов прошло мимо Гоголевского тупика; в лице этого поколения “скитальчество” стало перерастать самого себя. Оно становится соборным, внутренне сомкнутым, связанным круговою порукою и общим обетом подвижничества. Рождается своеобразный “орден русской интеллигенции”, направляющий течение разрозненных скитаний в одно русло, сливающее их как бы в целый “крестовый поход”. Его участники, однако, не просто рыцари, а странствующие рыцари-монахи. Вспомните, что говорил историк русской революции: “русский социалист порывал свои семейные связи, отказывался от карьеры, вызывал искусственный загар лица, надевал затем крестьянскую одежду, засовывал за голенище фальшивый паспорт, перекидывал через плечо котомку с книгами, брал в руки посох, отряхивал от ног своих прах старого мира и пускался в неизвестный путь...” (Проф. Тун. “История русской революции”).
Все это, по словам одного из участников тогдашнего движения в народ, П.Б. Аксельрода, было скорее “паломничеством ко святым местам народной жизни со стороны верующих мужчин, женщин и детей, чем серьезно-продуманным делом сознательной и организованной революционной партии...”
У другого выдающегося участника того движения — эти настроения осложнились и изменились. Он сказал себе: “не могу больше жить для условных полезностей революционных программ, я должен найти абсолютное Благо и абсолютную Правду, чтобы жить ими”. Он встретился с вдохновенным чудаком, проповедником “богочеловечества” Маликовым (с него Достоевский в “Бесах” взял коллизию “богочеловека” с “человекобогом”). Поставив Чайковскому вопрос, во что он верит, и, получив ответ — “в человека”. Маликов голосом ветхозаветного пророка прогремел: “чтобы верить в человека, нужно уметь найти в нем Бога!”. И судьба Чайковского была решена. “В августе 1874 — говорит он — я расстался с друзьями, а в сентябре, того же года уехал заграницу, по пути в американские степи для осуществления в своей жизни богочеловека”.
Такова была эта “партия”, о которой Бакунин сказал: “она состоит из бесчисленного множества лиц всех сословий, бежавших от сословий и от всех признанных положений в России: из людей, ненавидящих настоящее, готовых отдать жизнь за будущее, живущих, так сказать, на воздухе: бездомная странствующая церковь свободы...”
На этом и остановим наш далеко не исчерпывающий смотр попыток художественного постижения стихии русского скитальчества.
В 3-м томе своей “Русской истории” В. О. Ключевский говорит: “Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, бежали из государства. Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обитателями в чужом доме; когда им становилось тяжело, они считали возможным бежать от неудобного домовладельца, но не могли освоиться с мыслью о возможности восставать против него или заводить другие порядки в его доме”.
Подобная же, в сущности, мысль была выражена и проф. Вернадским в его словах: “бунтарство русского народа есть лишь обратная сторона его государственности”.
Скитальчество интеллигентское приходится при этом рассматривать, как своеобразное проявление на верхах русского общества того же самого процесса, который по иному, но еще более глубинным, почвенным образом проявлялся в его народных низах. И параллелизм этих двух явлений, и единство их первоисточника является пока еще “неподнятой целиной” истории русской литературы, взятой в органической связи с историей самого русского народа. Тот же основной стержень, как у классиков, мы найдем и позднее в обоих разветвлениях русской литературы: и в неореализме Горького, Леонида Андреева, Чехова, Бунина, — и в символизме Вл. Соловьева, Мережковского, Брюсова, Белого, Блока, Клюева, Есенина. И глубинной подкладкой этого является основной факт всей русской истории: массового скитальчества непоседливости, неуемности, колонизационного пионерства русского народа в непосредственной связи с непомерным удельным весом его “государственной кровли” и с геополитическими рамками его исторического бытия. Когда это будет доказано и наглядно показано, — вписана будет необыкновенно значительная глава в общую “философию истории русской литературы и русской жизни”...
[1]Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы,
где читают “Ticelle” и летят под постель “Святцы”.